 |
РУБРИКА "СВЕЖО ПРЕДАНИЕ"Там средь стволов ещё светлее…
 В ту ночь мне впервые в жизни не спалось. Горький комок в горле не таял. Я лежала с открытыми глазами, прислушиваясь к шелесту яблонь за ставнями. Это было начало невыразимого одиночества, к которому предстояло привыкать. Наутро дед читал газеты, долго чаевничал у самовара, он успел сходить за молоком в каменку на Достоевского и за французской булкой в гастроном на Чернышевского. Бабушка, пытаясь накормить меня, щедро намазала кусок свежей хрустящей булки маслом и яблочным вареньем. Но аппетит ко мне не приходил. В ту ночь мне впервые в жизни не спалось. Горький комок в горле не таял. Я лежала с открытыми глазами, прислушиваясь к шелесту яблонь за ставнями. Это было начало невыразимого одиночества, к которому предстояло привыкать. Наутро дед читал газеты, долго чаевничал у самовара, он успел сходить за молоком в каменку на Достоевского и за французской булкой в гастроном на Чернышевского. Бабушка, пытаясь накормить меня, щедро намазала кусок свежей хрустящей булки маслом и яблочным вареньем. Но аппетит ко мне не приходил.
Дед был хорошим психологом. Однажды он уже избавил меня от страха. После укуса соседского пса я долго боялась собак, и дед подарил мне пушистого, толстенького щенка, со временем вымахавшего в здоровенную дворнягу. Тарзан (кличку дал дедушкин квартирант, солист гаскаровского ансамбля, обожавший одноименный американский фильм) стал верным другом, участником и свидетелем моих детских забав.
Вот и на этот раз дед отыскал для меня действенное лекарство. Было решено отправиться в парк Якутова и покататься на паровозе. По Кирова дошли до гостиницы «Башкирия» и на звонком, веселом трамвайчике быстро доехали до места. Дед купил входные билеты, и мы тут же очутились на главной аллее. Старые тополя, тянувшиеся с двух сторон, переплетались высоко над головой, и получалось нечто, напоминающее стрельчатый неф средневекового храма. Казалось, порхавшие под этим сводом птицы мечутся по длинному зеленому коридору в поисках выхода. Зашли в павильончик со смешными зеркалами, хохотали как безумные при виде собственных уморительных отражений. Заглянули в круглый читальный зал, где на столах лежали подшивки, должно быть, главных партийных газет - «Правды» и «Советской Башкирии». Потом двинулись в сторону детского городка. Тут я наткнулась на гипсового мальчика, обхватившего за шею гуся, и долго его разглядывала. Что-то отличало его от пионеров с горном и барабаном, застывших в другом конце аллеи. Откуда мне было знать, что эта жалкая копия знаменитой скульптуры, как и пресловутая «Девушка с веслом», украшает все парки Советского Союза, что подлинник был создан в III веке до нашей эры мастером Боэфом из Халкедона. Вероятно, однажды скульптура пленила какого-нибудь русского барина, и вскоре «Мальчик с гусем» прописался в дворянских усадьбах.
Предтечей «Девушки с веслом» послужили античные богини из Летнего и Царскосельского садов. Об одной такой статуе Анна Ахматова написала: «И ослепительно стройна, поджав незябнущие ноги, на камне северном она сидит и смотрит на дороги».
В 30-е во многих садах и парках СССР появились дешевые копии греческих скульптур, как символ «здорового духа в здоровом теле». А там и «гипсовый соцреализм» стал стремительно набирать силу. Самая главная «Девушка с веслом» родилась в мастерской Ивана Шадра. Она была установлена в Москве в 1935 году в центре фонтана на главной магистрали ЦПКиО им. Горького. 12-метровая махина подверглась критике из-за своей «нарядной наготы», излишней сексуальности. Через год Шадр сделал новую восьмиметровую - более женственную и, если можно так сказать, скромную. В 1941-м она попала под бомбежку. И вот совсем недавно, 3 сентября нынешнего года, ко Дню города шадровская статуя вернулась на прежнее место, только в уменьшенном варианте.
Основой же для тиражирования послужила «Девушка» другого скульптора, современника Шадра, Ромуальда Иодко. В отличие от Шадра, восхищавшегося красотой женского тела, Иодко стыдливо приодел своих спортсменок в трусы и футболки. Именно такая стояла в Якутовском, на боковой аллее, ведущей к озеру.
На вокзал детской железной дороги мы с дедом решили попасть, обогнув стадион вдоль ограды, отделяющей парк от улицы Карла Маркса. За высокой решеткой виднелись новые красивые дома. На ближайшем через дорогу четырехэтажном жилом здании я разглядела декоративную угловую башенку - подходящее место для томящейся в заточении сказочной принцессы. Только много лет спустя мне открылось тайное предназначение этого помещения.
Как раз в 1955-м вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о преодолении излишеств в архитектуре и строительстве. Посчитали, что проектировщики слишком увлеклись, замечтались, начали воздушные замки возводить в прямом смысле слова, государственные деньги бросать на ветер. Людям жилья не хватает, в бараках живут, а тут лепниной балуются.
«Железнодорожные», как их окрестили в народе, дома начали строить в начале 50-х на пустом городском пространстве, тянувшемся до Революционной и именуемом площадью Революции. Дом с башенкой по К. Маркса, 67 проектировал свердловский архитектор из Уральского отделения института «Союзтранспроект» А.С. Исаченко. В квартире под башенкой долгие годы жила первая в Башкирии женщина - доктор экономических наук, профессор пединститута Анастасия Ивановна Грекова. Она-то и рассказывала своим знакомым, что изначально квартиру должен был получить сам Исаченко, и башенку он, вполне вероятно, спланировал для чего-то необыкновенного. Не картошку же там хранить. Может, хотел телескоп установить или устроить маленькую мастерскую. Но что-то не срослось, и уехал архитектор обратно в Свердловск.
А принцесса все-таки там была, во всяком случае в соседнем подъезде, в двухкомнатной квартире с мамой, папой и сестрой, и мы к ней еще вернемся…
Снова деду пришлось раскош
еливаться. Билеты купили сразу на три поездки, чтобы как следует все разглядеть. Паровоз был синий, с огромной красной звездой. Ехал он осторожно, бережно, особенно вокруг озера, словно ни на секунду не забывая о том, что пассажиры - дети. В открытые окна врывался теплый, порывистый ветер. Деду приходилось слегка придерживать модную летнюю шляпу из мало тогда кому известного нового материала, называвшегося «синтетикой».
Парк в ту пору шумел густой листвой. Деревья, посаженные после войны, разрослись. Еще в конце 30-х дореволюционные посадки в старинных парках, в том числе и Якутовском, достигли предельного возраста, березы и тополя стали выпадать. Когда в 1903 году усатый красавeц-полицмейстер Генрих Бухартовский, который мог бы послужить прообразом бравого полковника Лагранжа в заволжской эпопее Бориса Акунина, задумал на месте бывшего военного лагеря устроить «приличный парк» по образцу Ушаковского, дело казалось немыслимым: ни одного деревца, земля неровная, изрытая каменоломными шахтами. Но уже через год, в начале октября 1904-го, на будущие центральные и боковые аллеи высадили тополя, привезенные из Пензенского училища садоводства. Березы и липы купили у крестьян под Уфой. Посадка была поручена садовнику Томкевичу, оказавшемуся бессребреником, - эту обязанность он счел почетной и отказался от оплаты своего труда. Помогал ему уфимский брандмейстер Н.А. Маныгин, который вел расходы, нанимал рабочих и т.п. Так был заложен парк Народной трезвости, в 1918-м переименованный в сад имени Ивана Якутова.
Во время войны многие деревья погибли от мороза, часть была вырублена. Восстановление зеленого хозяйства началось в конце 1940-х. К тому времени у треста «Зеленстрой» уже были свои питомники, некоторые породы заготавливались в пригородных лесах. Об этом подробно написано в очерке «Человек из Восточной слободы» (журнал «Уфа» № 6 за 2010 год).
…Из вагона поезда хорошо просматривались тенистые аллеи, укромные зеленые уголки. Деревья стояли, плотно прижавшись друг к другу, - так крепко сроднились. И в то же время парк был пронизан воздухом и солнцем, а внутри «готической» тополиной аллеи, как я заметила, было светлее, чем снаружи. Как у Ахматовой в «Приморском сонете»: «Там средь стволов еще светлее…».
Вот уже дважды мелькнула башенка - несбывшаяся мечта архитектора Исаченко. На противоположной стороне вплотную к парку стояли еще две башни-каланчи: одна высокая кирпичная, другая, что пониже, пошире, деревянная. Они тоже были для меня загадкой. Интересно, как взбираются на верхотуру пожарные, пускают ли туда детей?..
Истории «пожарного» двора
2 февраля 1953 года в Черниковске (до объединения его с Уфой оставалось три года) вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе, полыхавший не один день. «Мы жили на улице Заводской, мне было пять лет, но я хорошо помню тот случай, - говорит уфимец Виктор Ремезов, - черный дым в полнеба, тревожные разговоры взрослых. Те, кто постарше, вспоминали, как задолго до войны, кажется, в 1930-м, был сильный пожар в районе улиц Гафури и Красина, когда выгорел целый квартал, огонь уничтожил десятки домов, а больше тысячи человек остались без крова. Но страшнее черниковского никто не помнил».
В борьбе со стихией тогда погибли 23 пожарных - все мужчины в расцвете лет. Их фотографии можно увидеть сегодня на стенде в Центре противопожарной пропаганды. Пострадавших тоже было немало. Среди них - лейтенант Андрей Гаврилович Аникин. Наглотался на том пожаре всякой гадости, и открылась астма. Служил он в то время в пожарной части на Первомайской площади. В конце 1956-го его, уже капитана, назначили заместителем начальника 2-й части, и Аникины переехали на Ленина, 67, рядом с парком Якутова, где возвышалась дореволюционная каланча. Им выделили две комнаты в кирпичном пристрое-общежитии, предназначенном для офицерских семей. Жили беспокойно: звонит тревога, а Андрей Гаврилович и его соседи бегом через запасной выход проскакивают прямо в здание части через квартиру Аникиных. Но жена Андрея Гавриловича не сетовала. Пелагея Даниловна уважала работу мужа, да и дочки, Лида и Наташа, привыкли настолько, что даже не просыпались, когда начинались очередные трезвон и суматоха.
Старшая, Лида, училась в «образцово-показательной» 39-й школе и слыла ребенком-вундеркиндом. Воспитание в офицерской семье закладывало немало хороших качеств: сметливость, ответственность, наблюдательность, пунктуальность и, конечно, смелость. Переехав, восьмилетняя Лида первым делом решила произвести инвентаризацию «пожарного» двора - так издавна называли здешние места. И что же она обнаружила? Три барака чуть ли не прошлого века, где жили семьи рядовых пожарных. Деревянная каланча оказалась учебной. В заборе, примыкающем к парку, виднелись два лаза, позволявших бесплатно в любое время проникать в мир развлечений. Пока Лида размышляла обо всем этом, к ней подошла девчушка примерно ее возраста. С новой подружкой решили забраться на каланчу. Та знала, где находится потайная дверь на винтовую лестницу. Было жутко, страшно, но девочки все-таки добрались до смотровой площадки. Там находился дежурный, они испугались и убежали. Только через пару лет, когда о пожарах стали извещать по телефону и каланча опустела, Лида смогла впервые разглядеть родной город с высоты птичьего полета. Уфа оказалась не очень-то большой, низенькой, сплошь заполоненной деревянными домами и бараками. Изредка просматривались высокие каменные здания, возведенные в 30-40-х, и совсем новенькие, «сталинские». Многих сегодняшних улиц не было и в помине, например, улицы Диагональной (50 лет Октября). Приблизительно на том месте, где сейчас Дом печати, на ипподроме, построенном в XIX веке, проходили какие-то бега - Лида без труда различила маленькие фигурки лошадей и жокеев. Еще дальше, за Ново-Ивановским кладбищем, где начиналась Восточная слобода, торчала еще одна каланча. В начале века там была канатная фабрика братьев Кругловых. А площадь вокруг нее так и называлась - Канатная. В 20-х из фабрики сделали пожарку - надстроили вышку. Сельхозинститут возвели неподалеку на пустыре через несколько лет после Лидиного обзора с каланчи. Тогда она, конечно, и не догадывалась, что именно отсюда возьмет начало одна из главных городских магистралей - проспект Октября.
Пелагея Даниловна, еще до замужества окончившая сельхозтехникум по специальности агроном-полевод, устроилась в парк цветоводом. Это при ней «страна» нашего детства изобиловала роскошными клумбами, которые она усердно поливала утром и вечером со своими помощницами. Лида с Наташей часто ей помогали. Еще в ведении Пелагеи Даниловны были парники, задуманные все тем же Бухартовским. Именно в Якутовском первыми стали проводить праздники цветов, ставшие потом общегородской традицией, и Пелагея Даниловна любила к ним готовиться.
Зимой Пелагея Даниловна сидела на раздаче коньков. Хотя рядом, через дорогу, был стадион «Труд», многие предпочитали этот небольшой каток в Якутовском. Он был уютным, в окружении деревьев, да и музыку по репродуктору гоняли поблагозвучнее: оперу, оперетту, советские хиты вроде «Ландышей». Ничего не могло быть лучше вечеров, проведенных здесь на катке. Белый снег, черные деревья и ультрамариновая дымка зимних сумерек. Поистине волшебные вечера…
Когда Лида училась во втором классе, ее стихи напечатали в школьном альманахе «Уфимская весна». Легендарный директор 39-й школы Агзам Шакирович Файзуллин был человеком продвинутым, или, как тогда говорили, передовым. Захотелось ему сборник с «творениями» ребят издать типографским способом. Не исключено, это первый такой прецедент в истории советской школы, во всяком случае, в Уфе. Раньше, чем в других школах, в нашу вернулись упраздненные в 30-х уроки домоводства и труда, введена обязательная производственная практика для старшеклассников. Над школой взял шефство паровозоремонтный завод, мальчиков стали обучать слесарному и токарному ремеслу. Часть ребят проходила практику в типографии «Октябрьский натиск», их учили профессиям печатников, наборщиков, корректоров и переплетчиков. На них и делал ставку Файзуллин и, конечно, на таланты из литературного кружка, который вел учитель литературы Герман Константинович Миняев. Интеллигентность из него просто била. С детьми разговаривал, как с равными, не кричал, даже голоса не повышал. Если хвалил, то сдержанно, если ругал - без обиды. За версту веяло хорошим образованием - учился в Московском педагогическом им. Крупской. Работал в Башкирском книжном издательстве. Был выпускающим редактором первого сборника стихов Мустая Карима на русском языке. Корни у него были стерлитамакские. Отец до революции был известным оптовиком, торговал луком, кожей, галантереей. Жена, Александра Александровна, учительница истории, тоже работала в 39-й. Мы ее побаивались: невероятно строгая, высокая, тонкая, ходила в габардиновых костюмах английского покроя. Из-за очков в круглой оправе выглядела еще строже и старше. На самом деле ей было не больше тридцати пяти. Жили Миняевы на первом этаже школы в директорской квартире, предусмотренной проектом. У них был сын Костя, который впоследствии тоже выбрал учительскую стезю. В середине 90-х, будучи директором 16-й школы, стал героем моей публикации в «Вечерке». Сегодня Константин Германович всей душой прикипел к созданной по его инициативе и успевшей стать популярной «Детской академии», выпускники которой успешно учатся в престижных вузах России и за рубежом.
В литературном кружке ребята под руководством Миняева учились писать рассказы и стихи, познавали газетные жанры, даже брали интервью у своих одноклассников. «Произведения» публиковались в рукописном журнале «Новь».
«Мой котенок - ну, и смех! - в грязь залез нечаянно, а потом царапал всех и пищал отчаянно». Вот такие стихи выходили из-под Лидиного пера. Она стала автором обоих сборников «Уфимской весны» (1958 и 1959 годов) и самой юной поэтессой. Тон задавали талантливые старшеклассники: Света Доброва, Галя Евсикова, Лида Белоусова, Мила Путыкевич и один юноша, отличавшийся добрым нравом, - будущий московский журналист и превосходный переводчик Ильгиз Каримов.
В 60-е в «пожарном» дворе появился тре
хэтажный кирпичный дом. Строили сами «методом товарищеской стройки». Стало еще многолюднее. Лида пропадала, как и все мы, во Дворце пионеров. Записалась в литературный кружок, так вдохновила ее «Уфимская весна».
Лида рано поняла, насколько опасна папина служба, и всегда тревожилась за него. В одном из бараков жила вдова пожарного, погибшего незадолго до открытия в ноябре 1956 года постоянного моста через Оренбургскую переправу. Загорелся дом на Цыганской поляне, наряд выехал, пожар был потушен, а на обратном пути, когда возвращались по плашкоутному мосту, машина упала в воду.
Неприятности случались и другого толка. Однажды утром (дело происходило в начале 60-х) в парке нашли тело молодого человека с «самострелом». Как выяснилось, его теща жила по соседству с «пожарным» двором, у них были сложные отношения, они постоянно ругались. На этот раз мужчина крепко выпил, сначала застрелил родственницу и с обрезом отправился в парк.
Окончание следует.
Рашида Краснова |
|
 |
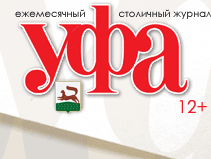




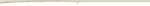





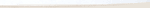

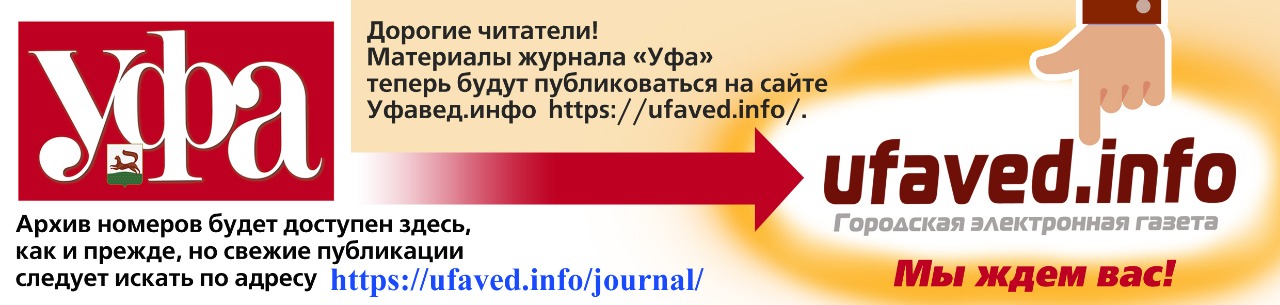
 В ту ночь мне впервые в жизни не спалось. Горький комок в горле не таял. Я лежала с открытыми глазами, прислушиваясь к шелесту яблонь за ставнями. Это было начало невыразимого одиночества, к которому предстояло привыкать. Наутро дед читал газеты, долго чаевничал у самовара, он успел сходить за молоком в каменку на Достоевского и за французской булкой в гастроном на Чернышевского. Бабушка, пытаясь накормить меня, щедро намазала кусок свежей хрустящей булки маслом и яблочным вареньем. Но аппетит ко мне не приходил.
В ту ночь мне впервые в жизни не спалось. Горький комок в горле не таял. Я лежала с открытыми глазами, прислушиваясь к шелесту яблонь за ставнями. Это было начало невыразимого одиночества, к которому предстояло привыкать. Наутро дед читал газеты, долго чаевничал у самовара, он успел сходить за молоком в каменку на Достоевского и за французской булкой в гастроном на Чернышевского. Бабушка, пытаясь накормить меня, щедро намазала кусок свежей хрустящей булки маслом и яблочным вареньем. Но аппетит ко мне не приходил.