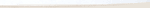|
 |
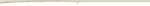 |
 |
 |
 |
Учитель музыки (Окончание)
 Летом 18-го
Уже состарившись, Екатерина Александровна рассказывала внучке Оле, как строился дом на улице Цюрупы. И утверждала, что дубовые брёвна для сруба Пётр Петрович привёз аж из Финляндии. В Европе же была куплена и голубая ель, которую граф посадил у своего дома.
Внучка Толстых Ольга Александровна показывает мне фотографии приезжавших в разные годы в Уфу артистов. На каждой – благодарность Екатерине Александровне, ведь «товарищ Толстая» частенько выступала в качестве аккомпаниатора. А вот и семейные снимки её деда и бабушки, ещё дореволюционные: красивые, уверенные в себе и в своём будущем люди, родители двух чудесных мальчишек. Старшего – Петра, мать называла Петей или Путей, а младшего – Александра, Шурашей… Летом 18-го
Уже состарившись, Екатерина Александровна рассказывала внучке Оле, как строился дом на улице Цюрупы. И утверждала, что дубовые брёвна для сруба Пётр Петрович привёз аж из Финляндии. В Европе же была куплена и голубая ель, которую граф посадил у своего дома.
Внучка Толстых Ольга Александровна показывает мне фотографии приезжавших в разные годы в Уфу артистов. На каждой – благодарность Екатерине Александровне, ведь «товарищ Толстая» частенько выступала в качестве аккомпаниатора. А вот и семейные снимки её деда и бабушки, ещё дореволюционные: красивые, уверенные в себе и в своём будущем люди, родители двух чудесных мальчишек. Старшего – Петра, мать называла Петей или Путей, а младшего – Александра, Шурашей…Интересно было всегда
 «Потрясающе, что люди с нуля начинали. Сложно нам сейчас это представить, когда есть и развитие, и учебники, и всё...» - рассказывала о первых российских историках-ученых Наталья Демидова, чьи труды потом вошли в учебники и позволили поднять на качественно новый уровень работу нескольких поколений последователей.
Ни одна из советских автономий тогда не получила столь обширного, подтвержденного документальными материалами исторического труда, когда в 1949 году вышла в свет ее книга «Материалы по истории Башкирской АССР», а в последующие годы еще пять томов. Особое значение историк придавала и изучению Уфы, внеся большой вклад в создание источниковой базы по истории основания города.
Пытливость ума и жажда знаний достались Наталье Федоровне от родителей, сельских учителей. Родилась она 27 октября 1920 года в Новом Поселке Орловской губернии. «У меня биография очень пестрая, потому что мы постоянно переезжали. В 1933 году приехали в Москву, жили за городом, потом по месту работы отца получили жилье в коммунальной квартире», - вспоминает она.
«Потрясающе, что люди с нуля начинали. Сложно нам сейчас это представить, когда есть и развитие, и учебники, и всё...» - рассказывала о первых российских историках-ученых Наталья Демидова, чьи труды потом вошли в учебники и позволили поднять на качественно новый уровень работу нескольких поколений последователей.
Ни одна из советских автономий тогда не получила столь обширного, подтвержденного документальными материалами исторического труда, когда в 1949 году вышла в свет ее книга «Материалы по истории Башкирской АССР», а в последующие годы еще пять томов. Особое значение историк придавала и изучению Уфы, внеся большой вклад в создание источниковой базы по истории основания города.
Пытливость ума и жажда знаний достались Наталье Федоровне от родителей, сельских учителей. Родилась она 27 октября 1920 года в Новом Поселке Орловской губернии. «У меня биография очень пестрая, потому что мы постоянно переезжали. В 1933 году приехали в Москву, жили за городом, потом по месту работы отца получили жилье в коммунальной квартире», - вспоминает она. Дегтяревы: корни и крона
 У известного российского ученого, политика и общественного деятеля Александра Дегтярева в апреле юбилей. Мог ли паренек из башкирской глубинки представить, что его ждет такая насыщенная и яркая жизнь? Но предпосылки к этому были. Он вырос в учительской семье, где слова «честь», «правда», «ответственность» не были пустым звуком. Об этом говорит вся история рода Дегтяревых.
В Бирском районе, километрах в семидесяти от Уфы, на холмистой местности, покрытой перелесками, на правом берегу Белой раскинулось село Старо-Петрово. Из трех его улиц две протянулись с востока на запад, а третья - вдоль гужевого зимнего пути из Янаула в Уфу. У известного российского ученого, политика и общественного деятеля Александра Дегтярева в апреле юбилей. Мог ли паренек из башкирской глубинки представить, что его ждет такая насыщенная и яркая жизнь? Но предпосылки к этому были. Он вырос в учительской семье, где слова «честь», «правда», «ответственность» не были пустым звуком. Об этом говорит вся история рода Дегтяревых.
В Бирском районе, километрах в семидесяти от Уфы, на холмистой местности, покрытой перелесками, на правом берегу Белой раскинулось село Старо-Петрово. Из трех его улиц две протянулись с востока на запад, а третья - вдоль гужевого зимнего пути из Янаула в Уфу.Последняя охота
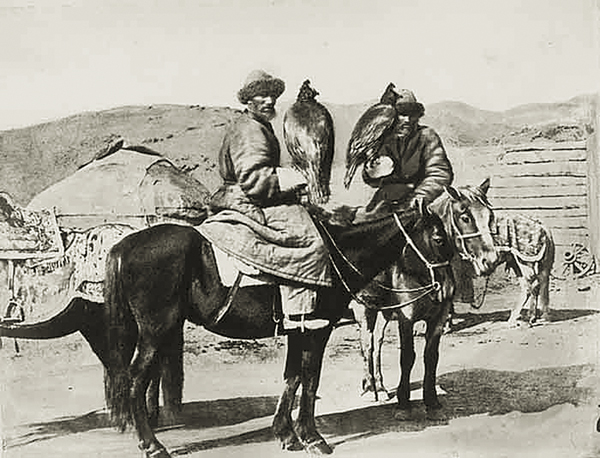 На Руси охота с ловчими птицами упоминается еще в былинах. Во всяком случае, к XIV веку относится учреждение специальных слуг при великокняжеском дворе - сокольников, промышлявших ловчих птиц по разным уездам. Позднее к ХVI в придворных званиях царского двора появился чин сокольничего, что давало ему возможность претендовать на должность городового воеводы. Расцвет соколиной охоты пришелся на правление Алексея Михайловича (1629-1676), который собственноручно написал наставление но такой охоте. Судя по этому труду, все лица, имевшие отношение к ней, приравнивались к московскому дворянству. Сокольники владели поместьями, вотчинами, крепостными. Помытчики, ответственные за ловлю и воспитание птиц, освобождались от большинства денежных и натуральных повинностей. Это была привилегированная царская служба. На Руси охота с ловчими птицами упоминается еще в былинах. Во всяком случае, к XIV веку относится учреждение специальных слуг при великокняжеском дворе - сокольников, промышлявших ловчих птиц по разным уездам. Позднее к ХVI в придворных званиях царского двора появился чин сокольничего, что давало ему возможность претендовать на должность городового воеводы. Расцвет соколиной охоты пришелся на правление Алексея Михайловича (1629-1676), который собственноручно написал наставление но такой охоте. Судя по этому труду, все лица, имевшие отношение к ней, приравнивались к московскому дворянству. Сокольники владели поместьями, вотчинами, крепостными. Помытчики, ответственные за ловлю и воспитание птиц, освобождались от большинства денежных и натуральных повинностей. Это была привилегированная царская служба.Досоветская прогулка по улице Советской
 Когда-то эта, в общем-то, небольшая улица имела едва ли не высший статус, ведь на ней располагалась резиденция начальника всего края – уфимского губернатора. Вот и название своё она получила именно потому, что на ней стоял дом губернатора. Удивительно то, что и при советской власти она продолжала выполнять функции, связанные с «высшим руководством», – здесь находились органы законодательной и исполнительной власти, а также областной комитет КПСС.
Впрочем, «важное» название улицы нисколько не мешало ей долгие годы оставаться в последних рядах по благоустройству. Писатель и библиограф Сергей Рудольфович Минцлов, некоторое время живший в Уфе, вспоминал о проведённых в нашем городе апрельских днях 1910 года: «Бродил по Уфе; осматривать в ней, собственно говоря, нечего: дома в большинстве, т.е. вернее – за редкими исключениями, сплошь деревянные. Зелени в городе мало, но есть парк; грязь в изобилии, снег с улиц, конечно, не счищают... Особенно изумительно грязна Губернаторская улица – она залита жидкою грязью и перейти через неё нечего и думать. Дважды был вынужден проехать по ней, и пролётка вязла более чем на четверть аршина». Когда-то эта, в общем-то, небольшая улица имела едва ли не высший статус, ведь на ней располагалась резиденция начальника всего края – уфимского губернатора. Вот и название своё она получила именно потому, что на ней стоял дом губернатора. Удивительно то, что и при советской власти она продолжала выполнять функции, связанные с «высшим руководством», – здесь находились органы законодательной и исполнительной власти, а также областной комитет КПСС.
Впрочем, «важное» название улицы нисколько не мешало ей долгие годы оставаться в последних рядах по благоустройству. Писатель и библиограф Сергей Рудольфович Минцлов, некоторое время живший в Уфе, вспоминал о проведённых в нашем городе апрельских днях 1910 года: «Бродил по Уфе; осматривать в ней, собственно говоря, нечего: дома в большинстве, т.е. вернее – за редкими исключениями, сплошь деревянные. Зелени в городе мало, но есть парк; грязь в изобилии, снег с улиц, конечно, не счищают... Особенно изумительно грязна Губернаторская улица – она залита жидкою грязью и перейти через неё нечего и думать. Дважды был вынужден проехать по ней, и пролётка вязла более чем на четверть аршина». От царства к империи: башкирский фактор
 Отметив в начале ноября 2021 года трехсотлетие Российской империи, мало кто задумался над тем, что титул императора, принятый Петром I, не привнес ничего нового в статус российского государства. До 1721 года краткий официальный титул российского монарха, используемый в делопроизводстве, формулировался так: «Государь, Царь и Великий князь всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец». Безусловно, ключевым словом в кратком титуле было слово «царь», потому и страна называлась Российским царством. Кстати, слово «Россия» не является самоназванием. В отличие от понятия «Русь», оно пришло к нам из Византийской империи. При Иване Грозном слово «Россия» вошло в обиход, но только при Петре I его стали писать с двумя буквами «с». Отметив в начале ноября 2021 года трехсотлетие Российской империи, мало кто задумался над тем, что титул императора, принятый Петром I, не привнес ничего нового в статус российского государства. До 1721 года краткий официальный титул российского монарха, используемый в делопроизводстве, формулировался так: «Государь, Царь и Великий князь всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец». Безусловно, ключевым словом в кратком титуле было слово «царь», потому и страна называлась Российским царством. Кстати, слово «Россия» не является самоназванием. В отличие от понятия «Русь», оно пришло к нам из Византийской империи. При Иване Грозном слово «Россия» вошло в обиход, но только при Петре I его стали писать с двумя буквами «с».Человек, который построил Уфу
 Уфа и уфимцы. Кто они? С особой гордостью и уверенностью рассуждают о родном городе коренные уфимцы, полагая, что имеют на это особое право - по одному факту рождения в этом некогда малоизвестном на просторах Российской империи, а потом и СССР городе. Даже будучи столицей БАССР, Уфа долгие годы оставалась глубокой провинцией: в грандиозных планах советской страны ей отводилась весьма скромная роль по сравнению с другими поволжскими, уральскими, сибирскими городами. На картах СССР есть Казань, Куйбышев, Свердловск, а Уфы нет. Так уж сложилось в новейшей истории. Уфа и уфимцы. Кто они? С особой гордостью и уверенностью рассуждают о родном городе коренные уфимцы, полагая, что имеют на это особое право - по одному факту рождения в этом некогда малоизвестном на просторах Российской империи, а потом и СССР городе. Даже будучи столицей БАССР, Уфа долгие годы оставалась глубокой провинцией: в грандиозных планах советской страны ей отводилась весьма скромная роль по сравнению с другими поволжскими, уральскими, сибирскими городами. На картах СССР есть Казань, Куйбышев, Свердловск, а Уфы нет. Так уж сложилось в новейшей истории.Осень патриарха
 Вернувшись из Кляшево - родного села Мустая Карима (куда отправилась за мустаевским духом, атмосферой и характерами его аульчан) - взялась писать. «Осень патриарха» - выдало заголовок подсознание, хотя никаких сравнений с известным произведением Габриаэля Гарсиа Маркеса я проводить и не собиралась. Нобелевский лауреат, как известно, поведал миру о страшном тиране, олицетворяющем абсолютную власть. А я в преддверии столетнего юбилея нашего литературного патриарха - народного поэта Башкортостана Мустая Карима, прожившего исключительно на светлой стороне земли, захотела заглянуть в его творчество через вековые обычаи и традиции односельчан, через демские просторы, вдохновлявшие поэта до последних дней. «Наш» патриарх - в первозданном греческом смысле слова по праву стал в современной России отцом башкирской литературы, отражением национальной культуры, талантов самородков, какими богата наша земля… Вернувшись из Кляшево - родного села Мустая Карима (куда отправилась за мустаевским духом, атмосферой и характерами его аульчан) - взялась писать. «Осень патриарха» - выдало заголовок подсознание, хотя никаких сравнений с известным произведением Габриаэля Гарсиа Маркеса я проводить и не собиралась. Нобелевский лауреат, как известно, поведал миру о страшном тиране, олицетворяющем абсолютную власть. А я в преддверии столетнего юбилея нашего литературного патриарха - народного поэта Башкортостана Мустая Карима, прожившего исключительно на светлой стороне земли, захотела заглянуть в его творчество через вековые обычаи и традиции односельчан, через демские просторы, вдохновлявшие поэта до последних дней. «Наш» патриарх - в первозданном греческом смысле слова по праву стал в современной России отцом башкирской литературы, отражением национальной культуры, талантов самородков, какими богата наша земля…Жизнь на солнечной стороне
 В Год семьи тема крепких супружеских союзов звучит с особой актуальностью. Социологи, психологи, генетики, педагоги и еще сотни специалистов в самых разных областях наук давно пытаются найти эффективный алгоритм, рецепт к созданию счастливых семей, где воспитывались бы здоровые, успешные и помнящие свои родовые корни дети. Но пока секрет или, как теперь говорят, квест не пройден, не разгадан. Зато традиция рассказывать о таких незаурядных уфимцах вполне себя оправдывает. И встреча с четой Клоповых, отметивших 55-летие своего счастливого союза, а теперь еще и подошедших к 80-летию главы семейства, - одна из страниц в летописи Уфы. Сам же юбиляр - известная личность в спортивном сообществе Башкортостана и ее столицы. Знакомясь с его родословной, понимаешь, что ничего случайного в нашей жизни не бывает, настоящий мужской характер формирует прежде всего семья, а спорт лишь помогает человеку найти свою верную дорогу, предначертанную судьбой. В Год семьи тема крепких супружеских союзов звучит с особой актуальностью. Социологи, психологи, генетики, педагоги и еще сотни специалистов в самых разных областях наук давно пытаются найти эффективный алгоритм, рецепт к созданию счастливых семей, где воспитывались бы здоровые, успешные и помнящие свои родовые корни дети. Но пока секрет или, как теперь говорят, квест не пройден, не разгадан. Зато традиция рассказывать о таких незаурядных уфимцах вполне себя оправдывает. И встреча с четой Клоповых, отметивших 55-летие своего счастливого союза, а теперь еще и подошедших к 80-летию главы семейства, - одна из страниц в летописи Уфы. Сам же юбиляр - известная личность в спортивном сообществе Башкортостана и ее столицы. Знакомясь с его родословной, понимаешь, что ничего случайного в нашей жизни не бывает, настоящий мужской характер формирует прежде всего семья, а спорт лишь помогает человеку найти свою верную дорогу, предначертанную судьбой.Скальпель, удочка, палатка(Комментариев: 1)
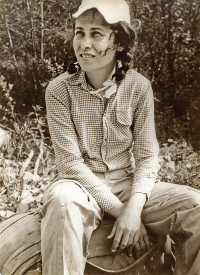 …Мужу отпуск тогда не дали, но Наталья не захотела менять планы и со свойственной ей решительностью отправилась на сплав по Зилиму с дочками – 11-летней Настей и четырехлетней Катей – в компании таких же заядлых сплавщиков-мужчин и их малолетних детишек. Река с первых же минут показала свой нрав: их резиновую лодку затащило под развесистое дерево. «Ложись на дно!» - приказала девчонкам, а уже через полчаса они наперегонки вычерпывали воду из лодки из-за некстати хлынувшего ливня. С трехлетнего возраста Наталья с мужем Михаилом таскали детей по походам и сплавам: объездили всю Башкирию, Алтай, Саяны, Карелию, Соловки. Теперь 35-летняя Анастасия с тем же упорством приучает свою дочь к общению с природой, а вот Катя предпочитает «цивилизованный» отдых у теплого моря, ей хватило родительской романтики… …Мужу отпуск тогда не дали, но Наталья не захотела менять планы и со свойственной ей решительностью отправилась на сплав по Зилиму с дочками – 11-летней Настей и четырехлетней Катей – в компании таких же заядлых сплавщиков-мужчин и их малолетних детишек. Река с первых же минут показала свой нрав: их резиновую лодку затащило под развесистое дерево. «Ложись на дно!» - приказала девчонкам, а уже через полчаса они наперегонки вычерпывали воду из лодки из-за некстати хлынувшего ливня. С трехлетнего возраста Наталья с мужем Михаилом таскали детей по походам и сплавам: объездили всю Башкирию, Алтай, Саяны, Карелию, Соловки. Теперь 35-летняя Анастасия с тем же упорством приучает свою дочь к общению с природой, а вот Катя предпочитает «цивилизованный» отдых у теплого моря, ей хватило родительской романтики…
Факел памяти
 Морозным днем 20 декабря 2013 года в конце улицы Степана Кувыкина в Уфе в направлении Менделеева бежал очередной олимпийский факелоносец, мужчина средних лет. Он бежал, и ему
не верилось в реальность - ведь все это в городе, где жили его предки, где родились его несчастный дед, братья и сестры деда, где ровно сто лет назад умерла прабабушка Тамара, красивая женщина 38 лет, мать пятерых детей. Ее фотографии хранятся в семейном альбоме. Накануне вместе с краеведом Анатолием Чечухой он побывал
на Сергиевском кладбище, где увидел красивое, черного мрамора старинное надгробие, установленное прадедом. Морозным днем 20 декабря 2013 года в конце улицы Степана Кувыкина в Уфе в направлении Менделеева бежал очередной олимпийский факелоносец, мужчина средних лет. Он бежал, и ему
не верилось в реальность - ведь все это в городе, где жили его предки, где родились его несчастный дед, братья и сестры деда, где ровно сто лет назад умерла прабабушка Тамара, красивая женщина 38 лет, мать пятерых детей. Ее фотографии хранятся в семейном альбоме. Накануне вместе с краеведом Анатолием Чечухой он побывал
на Сергиевском кладбище, где увидел красивое, черного мрамора старинное надгробие, установленное прадедом.
Поэзия кисти Александра Бурзянцева
 Когда-то каждый уфимец знал, где находится Золотухинская слобода. Не было горожанина, который бы не нашел Усольскую гору. Дома здесь стояли довольно хаотично, заборы тянулись, образуя настоящие лабиринты. Еще жив топоним «Старая Уфа», но теперь все чаще пишется микрорайоны «Южный», «Зеленая роща», «Колгуевский». Медленно, но верно на частные домики наступают многоэтажки с домофонами, огороженными дворами и соседями, которые не знают друг друга. Урбанизация-цивилизация. Мы еще не начали тосковать по снесенному частному сектору, пока в тренде - коммунальные удобства и расширение улиц. Но уже сейчас, когда видишь на полотнах Александра Бурзянцева старую, патриархальную Уфу, сердце невольно сжимается. Кажется, что-то важное все-таки потеряно… Когда-то каждый уфимец знал, где находится Золотухинская слобода. Не было горожанина, который бы не нашел Усольскую гору. Дома здесь стояли довольно хаотично, заборы тянулись, образуя настоящие лабиринты. Еще жив топоним «Старая Уфа», но теперь все чаще пишется микрорайоны «Южный», «Зеленая роща», «Колгуевский». Медленно, но верно на частные домики наступают многоэтажки с домофонами, огороженными дворами и соседями, которые не знают друг друга. Урбанизация-цивилизация. Мы еще не начали тосковать по снесенному частному сектору, пока в тренде - коммунальные удобства и расширение улиц. Но уже сейчас, когда видишь на полотнах Александра Бурзянцева старую, патриархальную Уфу, сердце невольно сжимается. Кажется, что-то важное все-таки потеряно…Жизнь под напряжением
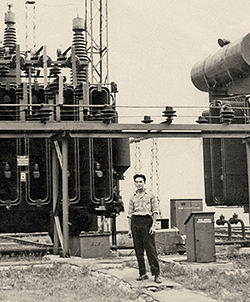 Шахматная партия
Дед Юсуп, заменивший Рафаэлю отца, был легендарной личностью, известной на всю округу. Один из немногих он воевал на Русско-японской войне, вернулся с наградами. Таким бесстрашным, бескомпромиссным оставался Юсуп-атай всю свою долгую жизнь, а прожил он 92 года! Всем девятерым детям постарался дать высшее образование - они стали учителями, медиками, инженерами. И только Хатифа из-за войны после семилетки не смогла учиться дальше. Но ее природный ум брал свое: она бегло читала по-арабски, знала Коран. Война сделала её вдовой в 17 лет. Разведчик Ибрагим Байдавлетов с последнего своего задания вернулся еле живым, но очередного «языка» притащил. Наградой ему за это стала весточка о рождении сына Рафаэля. Но через месяц он умер от ран в госпитале в Баку. Шахматная партия
Дед Юсуп, заменивший Рафаэлю отца, был легендарной личностью, известной на всю округу. Один из немногих он воевал на Русско-японской войне, вернулся с наградами. Таким бесстрашным, бескомпромиссным оставался Юсуп-атай всю свою долгую жизнь, а прожил он 92 года! Всем девятерым детям постарался дать высшее образование - они стали учителями, медиками, инженерами. И только Хатифа из-за войны после семилетки не смогла учиться дальше. Но ее природный ум брал свое: она бегло читала по-арабски, знала Коран. Война сделала её вдовой в 17 лет. Разведчик Ибрагим Байдавлетов с последнего своего задания вернулся еле живым, но очередного «языка» притащил. Наградой ему за это стала весточка о рождении сына Рафаэля. Но через месяц он умер от ран в госпитале в Баку.Потомственный дворянин(Комментариев: 20)
 Окончание. Начало в № 1.
Природа щедро одарила Алексея. Вместе с сестренкой Ольгой, певшей в церковном хоре в Сергиевском храме, он часами мог слушать купленный отцом патефон с комплектом пластинок. Любой инструмент, к которому прикасались его изящные руки, с ходу выдавал слаженную мелодию, словно юноша уже давно тренировал эти клавиши, а не дотрагивался до них впервые. Любое дело, за которое он с легкостью брался, выходило ладно. Сызмальства крутясь возле стряпухи, выпрашивал кусочки теста для своих смешных изваяний, напоминающих то соседских девчонок, то бабок на завалинке. Был у отца купец-приятель, державший мастерскую, где строгали не только лавки, столы, шкафы, но и гробы. Поначалу Алеша обходил стороной гробовщиков, как он про себя окрестил мастеров столярки, но как-то, выполняя поручение отца, задержался возле краснодеревщика, мастерившего буфет с причудливыми завитушками. Попробовал сам податливое дерево - вышли веселые симпатичные фигурки, отдалённо напоминающие кузнецовские фарфоровые статуэтки, коллекцию которых собирали в семье.
Окончание. Начало в № 1.
Природа щедро одарила Алексея. Вместе с сестренкой Ольгой, певшей в церковном хоре в Сергиевском храме, он часами мог слушать купленный отцом патефон с комплектом пластинок. Любой инструмент, к которому прикасались его изящные руки, с ходу выдавал слаженную мелодию, словно юноша уже давно тренировал эти клавиши, а не дотрагивался до них впервые. Любое дело, за которое он с легкостью брался, выходило ладно. Сызмальства крутясь возле стряпухи, выпрашивал кусочки теста для своих смешных изваяний, напоминающих то соседских девчонок, то бабок на завалинке. Был у отца купец-приятель, державший мастерскую, где строгали не только лавки, столы, шкафы, но и гробы. Поначалу Алеша обходил стороной гробовщиков, как он про себя окрестил мастеров столярки, но как-то, выполняя поручение отца, задержался возле краснодеревщика, мастерившего буфет с причудливыми завитушками. Попробовал сам податливое дерево - вышли веселые симпатичные фигурки, отдалённо напоминающие кузнецовские фарфоровые статуэтки, коллекцию которых собирали в семье. Потомственный дворянин(Комментариев: 6)
 Иногда меня оставляли у дяди Леши - художника. Он прихрамывал после военного ранения, поэтому прогуливались мы с ним не спеша. Еще у него было больное сердце - обширный инфаркт, в квартире пахло лекарствами, а любимец семейства - вальяжный серый кот обожал валерьянку. У их дома частенько стояла «скорая» и тогда меня не водили к Вавиловым. Но через какое-то время дядя Леша появлялся на улице, и я не упускала случая поболтать с другом. Летом он сидел в своем зеленом дворике за мольбертом, а я крутилась рядом и помалкивала ровно столько, на сколько у меня хватало терпения. Особенно мне нравилось гулять с дядей Лешей зимой: он рисовал на сугробах своей кожаной перчаткой забавных зверюшек. Я приставала со всякими глупостями, а он отвечал мне, как взрослой.
Я подросла и пошла в школу, у соседей меня оставляли все реже, и беседы с Алексеем Николаевичем сошли на нет. Но однажды в зимние каникулы с подружкой Аллой мы решили прыгать в сугроб с крыш. Испробовали сарай - понравилось, азарт разгорелся, и мы решили переметнуться на высоченную крышу дома, под которой и сугроба-то не было. Но тут нас застукал насмерть перепугавшийся дядя Леша. На тот момент храбрость покинула и нас. Мы сидели на сверкающей в лучах январского солнца крыше, а весь мягкий пушистый снег давно съехал без нас, и траектория предполагаемого пилотажа не предвещала ничего веселого. «Сидите, не двигайтесь!», - приказал нам сосед. И, вернувшись с длинным шестом, страховал наше возвращение к лестнице. А вечером дяде Леше опять вызывали «скорую»… Иногда меня оставляли у дяди Леши - художника. Он прихрамывал после военного ранения, поэтому прогуливались мы с ним не спеша. Еще у него было больное сердце - обширный инфаркт, в квартире пахло лекарствами, а любимец семейства - вальяжный серый кот обожал валерьянку. У их дома частенько стояла «скорая» и тогда меня не водили к Вавиловым. Но через какое-то время дядя Леша появлялся на улице, и я не упускала случая поболтать с другом. Летом он сидел в своем зеленом дворике за мольбертом, а я крутилась рядом и помалкивала ровно столько, на сколько у меня хватало терпения. Особенно мне нравилось гулять с дядей Лешей зимой: он рисовал на сугробах своей кожаной перчаткой забавных зверюшек. Я приставала со всякими глупостями, а он отвечал мне, как взрослой.
Я подросла и пошла в школу, у соседей меня оставляли все реже, и беседы с Алексеем Николаевичем сошли на нет. Но однажды в зимние каникулы с подружкой Аллой мы решили прыгать в сугроб с крыш. Испробовали сарай - понравилось, азарт разгорелся, и мы решили переметнуться на высоченную крышу дома, под которой и сугроба-то не было. Но тут нас застукал насмерть перепугавшийся дядя Леша. На тот момент храбрость покинула и нас. Мы сидели на сверкающей в лучах январского солнца крыше, а весь мягкий пушистый снег давно съехал без нас, и траектория предполагаемого пилотажа не предвещала ничего веселого. «Сидите, не двигайтесь!», - приказал нам сосед. И, вернувшись с длинным шестом, страховал наше возвращение к лестнице. А вечером дяде Леше опять вызывали «скорую»…Салиса – сестра Мустая(Комментариев: 1)
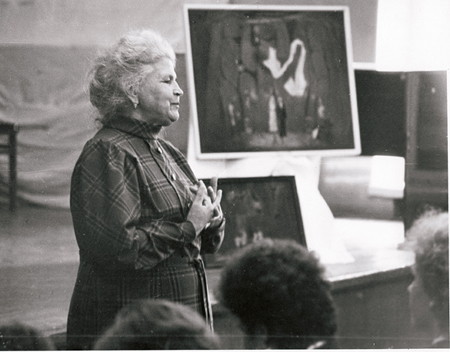 …Услышав от соседских мальчишек о начале приема в школу, я отправилась туда самостоятельно. В кабинете директора собрались. Дошла моя очередь. Меня сразу узнали - Сафа кызы пришла. А сколько же тебе лет, спрашивают. Мне было всего 6. Но я не растерялась и сказала, что очень хочу учиться и от других не отстану. Беседа продолжилась. Говорили, естественно, на родном языке. Атан-инэн тигезмэ? - спрашивают. Я поняла эту фразу буквально: мол, одного ли роста твои мама и папа. Мне тогда было невдомек, что спрашивают, полная ли ваша семья. Но я абсолютно уверенно заявила: нет, дескать, родители не равны, папа значительно выше мамы. Учителя искренне расхохотались, а я расплакалась и выбежала из кабинета… …Услышав от соседских мальчишек о начале приема в школу, я отправилась туда самостоятельно. В кабинете директора собрались. Дошла моя очередь. Меня сразу узнали - Сафа кызы пришла. А сколько же тебе лет, спрашивают. Мне было всего 6. Но я не растерялась и сказала, что очень хочу учиться и от других не отстану. Беседа продолжилась. Говорили, естественно, на родном языке. Атан-инэн тигезмэ? - спрашивают. Я поняла эту фразу буквально: мол, одного ли роста твои мама и папа. Мне тогда было невдомек, что спрашивают, полная ли ваша семья. Но я абсолютно уверенно заявила: нет, дескать, родители не равны, папа значительно выше мамы. Учителя искренне расхохотались, а я расплакалась и выбежала из кабинета…Непобедимый
 Яшка с Уральской
Всю жизнь, куда бы ни приезжал - по собкоровским делам, по редакторским, в отпуск или просто так, - он действует по одной и той же схеме. Первым делом отправляется в местный музей (надо же иметь представление об истории населенного пункта), затем идет на базар (цены, уровень жизни, человеческие характеры), а потом на кладбище, где достаточно взглянуть на могилы, в каком они пребывают состоянии, и понять, насколько культурен здешний народ. Яшка с Уральской
Всю жизнь, куда бы ни приезжал - по собкоровским делам, по редакторским, в отпуск или просто так, - он действует по одной и той же схеме. Первым делом отправляется в местный музей (надо же иметь представление об истории населенного пункта), затем идет на базар (цены, уровень жизни, человеческие характеры), а потом на кладбище, где достаточно взглянуть на могилы, в каком они пребывают состоянии, и понять, насколько культурен здешний народ.
Помни имя своё...(Комментариев: 4)
 «Здравствуйте, вас приветствует динозавр! Все ли в порядке, как настроение?», - окуная стоящих в приемной посетителей в море своего обаяния и заполняя пространство какой-то магической силой, явилась предо мной эта решительная, красивая дама. «Кто это?», - шёпотом спросила я. «Вы что, не знаете?! Это же Нинель Даутовна Юлтыева», - привели меня в чувство девочки-хозяйки приемной министра культуры Татарстана. И я тут вспомнила, как час назад сама министр сообщила мне: «Скоро сюда подъедет женщина, которая с возрастом становится все более женственной и очаровательной и на которую так хочется походить. Мы готовимся провести ее юбилейный вечер
23 марта, и необходимо обсудить кой-какие моменты»…
Так состоялось мое, увы, мимолетное знакомство с этой женщиной-легендой. Мы проговорили всего лишь час (я спешила в Уфу), но расстались как родные. И вот опять у меня цейтнот, пишу впопыхах, чтобы успеть в мартовский номер журнала - к ее дате. Звоню юбилярше на домашний телефон в Казани уточнить некоторые детали. Слышу тот же молодой и бодрый голос человека, который даже в своем взрослом возрасте готов встрепенуться и откликнуться в любую минуту. Что значит врожденная интеллигентность - улыбаюсь про себя, памятуя, как перед этим тщетно пыталась дозвониться до одного чиновника. Какие все-таки разные живут на свете люди… «Здравствуйте, вас приветствует динозавр! Все ли в порядке, как настроение?», - окуная стоящих в приемной посетителей в море своего обаяния и заполняя пространство какой-то магической силой, явилась предо мной эта решительная, красивая дама. «Кто это?», - шёпотом спросила я. «Вы что, не знаете?! Это же Нинель Даутовна Юлтыева», - привели меня в чувство девочки-хозяйки приемной министра культуры Татарстана. И я тут вспомнила, как час назад сама министр сообщила мне: «Скоро сюда подъедет женщина, которая с возрастом становится все более женственной и очаровательной и на которую так хочется походить. Мы готовимся провести ее юбилейный вечер
23 марта, и необходимо обсудить кой-какие моменты»…
Так состоялось мое, увы, мимолетное знакомство с этой женщиной-легендой. Мы проговорили всего лишь час (я спешила в Уфу), но расстались как родные. И вот опять у меня цейтнот, пишу впопыхах, чтобы успеть в мартовский номер журнала - к ее дате. Звоню юбилярше на домашний телефон в Казани уточнить некоторые детали. Слышу тот же молодой и бодрый голос человека, который даже в своем взрослом возрасте готов встрепенуться и откликнуться в любую минуту. Что значит врожденная интеллигентность - улыбаюсь про себя, памятуя, как перед этим тщетно пыталась дозвониться до одного чиновника. Какие все-таки разные живут на свете люди…
Люди и фотографии(Комментариев: 5)
 (Окончание)
Чужие среди своих
Когда в нашей стране запрещали праздновать ёлку? Многие уверенно скажут, что в 1920 - 1930-е годы, и что праздника детей лишали большевики. Да, это так, но был ещё и 1914-й, когда на волне антигерманских настроений в связи с начавшейся войной Святейший Синод запретил ставить рождественские ёлки. Несмотря на широкое распространение по России, ёлка всё ещё считалась немецкой традицией, не было забыто и выражение «идти под ёлку», связанное с праздником разве что для выпивох: долгие годы ёлки устанавливались над входом в кабаки. Весной 1915 года Николай II создал особый комитет «по борьбе с германским засильем», тогда же началась ликвидация немецких колоний в Поволжье и на Украине. Парадоксальность ситуации была в том, что в российской армии очень многие офицеры носили немецкие фамилии, среди дворян и чиновников таковых было также немало, сама императрица была немкой. А в семье Вайднер ёлку и без этого не наряжали уже пять лет, 25 декабря для неё было днём траура: в Рождество 1909-го умерла двухлетняя Юля. (Окончание)
Чужие среди своих
Когда в нашей стране запрещали праздновать ёлку? Многие уверенно скажут, что в 1920 - 1930-е годы, и что праздника детей лишали большевики. Да, это так, но был ещё и 1914-й, когда на волне антигерманских настроений в связи с начавшейся войной Святейший Синод запретил ставить рождественские ёлки. Несмотря на широкое распространение по России, ёлка всё ещё считалась немецкой традицией, не было забыто и выражение «идти под ёлку», связанное с праздником разве что для выпивох: долгие годы ёлки устанавливались над входом в кабаки. Весной 1915 года Николай II создал особый комитет «по борьбе с германским засильем», тогда же началась ликвидация немецких колоний в Поволжье и на Украине. Парадоксальность ситуации была в том, что в российской армии очень многие офицеры носили немецкие фамилии, среди дворян и чиновников таковых было также немало, сама императрица была немкой. А в семье Вайднер ёлку и без этого не наряжали уже пять лет, 25 декабря для неё было днём траура: в Рождество 1909-го умерла двухлетняя Юля.Дорогая моя Шушана(Комментариев: 9)
 Урмия потерянная, Урмия обретенная
В середине 70-х в СССР в моду вошли высокие женские сапоги на «платформе». Несмотря на внешнюю тяжеловатость, это была необыкновенно удобная, выражаясь по-современному, антистрессовая обувь. Вот и я стала однажды обладательницей чудесных сапожек югославского производства: будучи в Москве, муж выстоял огромную очередь в ГУМе. Прошло какое-то время, и новым сапогам понадобилась чистка. Они были темно-вишневые, и в поисках крема нужного цвета я обошла все уфимские магазины, но тщетно - даже бесцветной ваксы не нашлось. Кто-то посоветовал намазать детским кремом, но блеска на обуви так и не появилось. Тут уж я решила воспользоваться услугами профессионального чистильщика и вспомнила о будочке у гостиницы «Башкирия». Там много лет сидела женщина, которую я с детских лет привыкла видеть на одном и том же месте. Одни называли ее тетей Шурой, другие - Александрой Степановной. Небольшого роста, полноватая, летом под цветастым платком, завязанным по-татарски концами наверх, виднелись аккуратно уложенные короной тугие черные косы, на висках и затылке выбивались симпатичные колечки волос, прямо как у Анны Карениной. В облике было что-то кавказское, легкий акцент выдавал уроженку южных областей. Поражали глаза: блестящие, ярко-зеленые с голубизной. Но самое главное - их внимательный, пытливый взгляд проникал в самое сердце. «Чем это ты их мазала, а? С ума сошла! Не надо слушать дураков. Ты их чуть не испортила!» - возмущалась тетя Шура, надраивая поверхность злосчастных «платформ». Урмия потерянная, Урмия обретенная
В середине 70-х в СССР в моду вошли высокие женские сапоги на «платформе». Несмотря на внешнюю тяжеловатость, это была необыкновенно удобная, выражаясь по-современному, антистрессовая обувь. Вот и я стала однажды обладательницей чудесных сапожек югославского производства: будучи в Москве, муж выстоял огромную очередь в ГУМе. Прошло какое-то время, и новым сапогам понадобилась чистка. Они были темно-вишневые, и в поисках крема нужного цвета я обошла все уфимские магазины, но тщетно - даже бесцветной ваксы не нашлось. Кто-то посоветовал намазать детским кремом, но блеска на обуви так и не появилось. Тут уж я решила воспользоваться услугами профессионального чистильщика и вспомнила о будочке у гостиницы «Башкирия». Там много лет сидела женщина, которую я с детских лет привыкла видеть на одном и том же месте. Одни называли ее тетей Шурой, другие - Александрой Степановной. Небольшого роста, полноватая, летом под цветастым платком, завязанным по-татарски концами наверх, виднелись аккуратно уложенные короной тугие черные косы, на висках и затылке выбивались симпатичные колечки волос, прямо как у Анны Карениной. В облике было что-то кавказское, легкий акцент выдавал уроженку южных областей. Поражали глаза: блестящие, ярко-зеленые с голубизной. Но самое главное - их внимательный, пытливый взгляд проникал в самое сердце. «Чем это ты их мазала, а? С ума сошла! Не надо слушать дураков. Ты их чуть не испортила!» - возмущалась тетя Шура, надраивая поверхность злосчастных «платформ».Человек из Восточной слободы
 Дядя Коля
И снова мир детства в тихом дворике на углу Кирова и Худайбердина, ласковое летнее утро, розовые мальвы вдоль дорожки к калитке по одной стороне, по другой - взбирающиеся по серой бревенчатой стене дома пурпурные «граммофончики» ипомеи, цикорий, нежно голубеющий по склонам оврагов, дурманящий запах репейника. Мы с бабушкой провожаем деда на работу. Он не ахти какой крупный начальник - управляющий трестом «Зеленстрой». За ним приезжает конюх на резвой лошадке, запряженной в черную лакированную коляску. Зимой коня впрягают в сани. Однажды Картатай повез меня на новогодний утренник. Где-то на Кустарной наша повозка опрокинулась в сугроб, конь-огонь, выскочив из упряжи, помчался в сторону Революционной, кучер за ним, а нам пришлось возвращаться домой. Но выпадали на мою долю счастливые дни, когда Картатай брал меня на свою работу. Обедали мы в аэродромовской столовой в «Петушке», бывшем загородном доме купца Костерина. Подавали обычно глазунью в маленькой порционной сковородке, которую ставили на плоскую тарелку. Район сегодняшнего Южного автовокзала тогда еще считался окраиной. По старинке его продолжали называть Восточной слободой. Там и находился «Зеленстрой» («Зеленхоз»), до сих пор не сменивший адреса. Дядя Коля
И снова мир детства в тихом дворике на углу Кирова и Худайбердина, ласковое летнее утро, розовые мальвы вдоль дорожки к калитке по одной стороне, по другой - взбирающиеся по серой бревенчатой стене дома пурпурные «граммофончики» ипомеи, цикорий, нежно голубеющий по склонам оврагов, дурманящий запах репейника. Мы с бабушкой провожаем деда на работу. Он не ахти какой крупный начальник - управляющий трестом «Зеленстрой». За ним приезжает конюх на резвой лошадке, запряженной в черную лакированную коляску. Зимой коня впрягают в сани. Однажды Картатай повез меня на новогодний утренник. Где-то на Кустарной наша повозка опрокинулась в сугроб, конь-огонь, выскочив из упряжи, помчался в сторону Революционной, кучер за ним, а нам пришлось возвращаться домой. Но выпадали на мою долю счастливые дни, когда Картатай брал меня на свою работу. Обедали мы в аэродромовской столовой в «Петушке», бывшем загородном доме купца Костерина. Подавали обычно глазунью в маленькой порционной сковородке, которую ставили на плоскую тарелку. Район сегодняшнего Южного автовокзала тогда еще считался окраиной. По старинке его продолжали называть Восточной слободой. Там и находился «Зеленстрой» («Зеленхоз»), до сих пор не сменивший адреса.Победители
 Дом под старыми тополями
Наше знакомство с Павлом Петровичем Мерзляковым состоялось в прошлом году. Он прочитал на сайте нашего журнала мой очерк «Лелька, или Подлинная история Каролины Ковальской», где было написано о шанхайских музыкантах-репатриантах, попавших в Уфу в конце 1940-х. Бывший уфимец и давно уже москвич, полковник внутренней службы, до выхода на пенсию работавший замначальника отдела Главного управления пожарной охраны МВД СССР, прислал отклик. Оказалось, с именем музыканта Петра Зелинского были связаны его юношеские годы. «Это был высокий, красивый человек, всегда элегантно одетый, - писал Павел Петрович. - Он прекрасно играл на гавайской гитаре, хорошо владел и другими инструментами. Много ездил по свету. Кажется, был дружен с Александром Вертинским. Ему приписывают авторство песни «Ах, шарабан мой, американка…». И вот занесло его в Уфу. Чаще всего Зелинский играл в ресторане «Башкирия». Приходил к нашим соседям Байшевым слушать зарубежную музыку. Глава семьи Каусар Шакирович, или дядя Костя, был радиоспециалистом высокого класса, и ему ничего не стоило поймать на своем коротковолновике любую радиостанцию. Пожалуй, это было единственное место в городе, где Зелинский отдыхал всей душой. С сыном дяди Кости, Рустамом, я дружил с детства». Дом под старыми тополями
Наше знакомство с Павлом Петровичем Мерзляковым состоялось в прошлом году. Он прочитал на сайте нашего журнала мой очерк «Лелька, или Подлинная история Каролины Ковальской», где было написано о шанхайских музыкантах-репатриантах, попавших в Уфу в конце 1940-х. Бывший уфимец и давно уже москвич, полковник внутренней службы, до выхода на пенсию работавший замначальника отдела Главного управления пожарной охраны МВД СССР, прислал отклик. Оказалось, с именем музыканта Петра Зелинского были связаны его юношеские годы. «Это был высокий, красивый человек, всегда элегантно одетый, - писал Павел Петрович. - Он прекрасно играл на гавайской гитаре, хорошо владел и другими инструментами. Много ездил по свету. Кажется, был дружен с Александром Вертинским. Ему приписывают авторство песни «Ах, шарабан мой, американка…». И вот занесло его в Уфу. Чаще всего Зелинский играл в ресторане «Башкирия». Приходил к нашим соседям Байшевым слушать зарубежную музыку. Глава семьи Каусар Шакирович, или дядя Костя, был радиоспециалистом высокого класса, и ему ничего не стоило поймать на своем коротковолновике любую радиостанцию. Пожалуй, это было единственное место в городе, где Зелинский отдыхал всей душой. С сыном дяди Кости, Рустамом, я дружил с детства».Поток времён не смоет берега(Комментариев: 2)
 Сдержанность хорошего воспитания
В этом месте, на углу Кирова и Худайбердина, вдоль забора Витаминки, шел великолепный длинный, пологий спуск, прокатиться по которому на санках было одно удовольствие. В начальных классах я жила тут рядом, у дедушки с бабушкой, и чувствовала себя полновластной хозяйкой этой горы. Во всяком случае, наша дворняга Тарзан нисколько в этом не сомневался. По утрам он провожал меня до школы, а после обеда с пронзительным лаем бегал или возле лыжни, проложенной до Пархоменко, или вдогонку за санками. Так он разделял мою страсть к зимним забавам. Сюда приходили, волоча за собой санки, дети с соседних улиц, и я великодушно разрешала им пользоваться данной территорией. Были среди них две девочки - Оля и Наташа, с ними я каталась до задубения шаровар с начесом. Сдержанность хорошего воспитания
В этом месте, на углу Кирова и Худайбердина, вдоль забора Витаминки, шел великолепный длинный, пологий спуск, прокатиться по которому на санках было одно удовольствие. В начальных классах я жила тут рядом, у дедушки с бабушкой, и чувствовала себя полновластной хозяйкой этой горы. Во всяком случае, наша дворняга Тарзан нисколько в этом не сомневался. По утрам он провожал меня до школы, а после обеда с пронзительным лаем бегал или возле лыжни, проложенной до Пархоменко, или вдогонку за санками. Так он разделял мою страсть к зимним забавам. Сюда приходили, волоча за собой санки, дети с соседних улиц, и я великодушно разрешала им пользоваться данной территорией. Были среди них две девочки - Оля и Наташа, с ними я каталась до задубения шаровар с начесом.Рябиновые бусы(Комментариев: 1)
 Дитя удачи
В начале 1970-х я работала в комсомольской газете «Ленинец». Редакция находилась в тогдашнем Доме печати на Пушкина, 63. А вот «Вечерка», начавшая выходить в 69-м и забравшая себе весь цвет молодежки, занимала целый этаж в гостинице «Уфа» на Карла Маркса, рядом со старым универмагом. Там внизу была замечательная кондитерская с кафетерием, где мы, молодые сотрудницы «Ленинца», частенько лакомились превосходными корзиночками и эклерами, запивая их на удивление вкусным кофе. После этого я обычно поднималась в «Вечерку», чтобы встретиться со «своими». В одно из таких посещений увидела новенькую - красивую сероглазую девочку в большом модном берете, из-под которого торчали забавные хвостики. Нас познакомил, кажется, Саня Касымов. Когда она назвала свое имя: «Тамара Рыбченко», - я вспомнила, что уже слышала о ней. Кто-то с восхищением рассказывал о девушке, окончившей филфак БГУ, больше года добросовестно проработавшей учительницей в дальней татарской деревне и теперь вот принятой в успевшую стать популярной газету. Говорили, что жутко талантливая - и пишет хорошо, и рисует. А «Вечерке» в тот момент понадобился художник со свежими взглядами на городскую жизнь. Что-то зацепило в Тамариных набросках с натуры главного редактора Явдата Бахтияровича Хусаинова, а освоение ею газетной графики, считал он, дело времени. Дитя удачи
В начале 1970-х я работала в комсомольской газете «Ленинец». Редакция находилась в тогдашнем Доме печати на Пушкина, 63. А вот «Вечерка», начавшая выходить в 69-м и забравшая себе весь цвет молодежки, занимала целый этаж в гостинице «Уфа» на Карла Маркса, рядом со старым универмагом. Там внизу была замечательная кондитерская с кафетерием, где мы, молодые сотрудницы «Ленинца», частенько лакомились превосходными корзиночками и эклерами, запивая их на удивление вкусным кофе. После этого я обычно поднималась в «Вечерку», чтобы встретиться со «своими». В одно из таких посещений увидела новенькую - красивую сероглазую девочку в большом модном берете, из-под которого торчали забавные хвостики. Нас познакомил, кажется, Саня Касымов. Когда она назвала свое имя: «Тамара Рыбченко», - я вспомнила, что уже слышала о ней. Кто-то с восхищением рассказывал о девушке, окончившей филфак БГУ, больше года добросовестно проработавшей учительницей в дальней татарской деревне и теперь вот принятой в успевшую стать популярной газету. Говорили, что жутко талантливая - и пишет хорошо, и рисует. А «Вечерке» в тот момент понадобился художник со свежими взглядами на городскую жизнь. Что-то зацепило в Тамариных набросках с натуры главного редактора Явдата Бахтияровича Хусаинова, а освоение ею газетной графики, считал он, дело времени.Эхо давних дней
 (Окончание)
Маша
Поезд шёл на целину. Уставшие от песен и дневной беготни молодые люди спали. Лишь одна молоденькая девушка - совсем ещё школьница, напряжённо всматриваясь в ночную темень, с замиранием сердца ждала станции. Ещё утром она была беззаботна и весела - до тех самых пор, пока проводница не обронила случайно, что ночью поезд останавливается лишь в Уфе. «Уфа» - это короткое слово она с раннего детства часто слышала дома, в Москве. В Уфе родился её дедушка. Она вспомнила, как пятилетней малышкой последний раз была у него на Сивцевом Вражке. Тогда он что-то рисовал акварелью. Ещё она вспомнила, что, по словам матери, именно дед попросил дать ей имя Маша: это сочетание - Мария Ивановна - ласкало ему слух, будило воспоминания о прекраснейших годах жизни, о первой его любви. Любви счастливой и трагичной. (Окончание)
Маша
Поезд шёл на целину. Уставшие от песен и дневной беготни молодые люди спали. Лишь одна молоденькая девушка - совсем ещё школьница, напряжённо всматриваясь в ночную темень, с замиранием сердца ждала станции. Ещё утром она была беззаботна и весела - до тех самых пор, пока проводница не обронила случайно, что ночью поезд останавливается лишь в Уфе. «Уфа» - это короткое слово она с раннего детства часто слышала дома, в Москве. В Уфе родился её дедушка. Она вспомнила, как пятилетней малышкой последний раз была у него на Сивцевом Вражке. Тогда он что-то рисовал акварелью. Ещё она вспомнила, что, по словам матери, именно дед попросил дать ей имя Маша: это сочетание - Мария Ивановна - ласкало ему слух, будило воспоминания о прекраснейших годах жизни, о первой его любви. Любви счастливой и трагичной.Настоящее рождается из прошлого
 Окончание. Начало в №6.
«Боль и гордость моя…»
Барый Калимуллин открыл для себя Уфу в мае 1927-го. Не приехал, не пришел, а приплыл. Как Колумб в Америку. Вместе с Семеном Турышевым и Исхаком Фазыловым, тоже инструкторами канткома ВЛКСМ, проплыл на лодке тысячу верст по Аю и Караидели. На восьмые сутки причалили к высокому уфимскому берегу. Газеты писали, что комсомольские вожаки стали пионерами водного туризма в Башкирии. Тогда ему было двадцать, и, конечно, город его пленил. Каким он его увидел?
Одноэтажным, деревянным. Только в центре встречались двух- и трехэтажные каменные здания. Прямоугольные кварталы, аккуратно нарезанные губернскими землемерами по образцу старых, самых первых, появившихся согласно генплану 1819 года (о нем Барый еще ничего не мог знать). Ровные, длиннющие улицы тянулись со всех сторон, но все непременно выходили к красавице Агидели, к заречным далям. Церкви и мечети не были порушены, каждый храм стоял на возвышенности, и городской ландшафт выглядел ладным и гармоничным. Ничто не мешало любоваться чудными пейзажами окрест Уфимского полуострова. Окончание. Начало в №6.
«Боль и гордость моя…»
Барый Калимуллин открыл для себя Уфу в мае 1927-го. Не приехал, не пришел, а приплыл. Как Колумб в Америку. Вместе с Семеном Турышевым и Исхаком Фазыловым, тоже инструкторами канткома ВЛКСМ, проплыл на лодке тысячу верст по Аю и Караидели. На восьмые сутки причалили к высокому уфимскому берегу. Газеты писали, что комсомольские вожаки стали пионерами водного туризма в Башкирии. Тогда ему было двадцать, и, конечно, город его пленил. Каким он его увидел?
Одноэтажным, деревянным. Только в центре встречались двух- и трехэтажные каменные здания. Прямоугольные кварталы, аккуратно нарезанные губернскими землемерами по образцу старых, самых первых, появившихся согласно генплану 1819 года (о нем Барый еще ничего не мог знать). Ровные, длиннющие улицы тянулись со всех сторон, но все непременно выходили к красавице Агидели, к заречным далям. Церкви и мечети не были порушены, каждый храм стоял на возвышенности, и городской ландшафт выглядел ладным и гармоничным. Ничто не мешало любоваться чудными пейзажами окрест Уфимского полуострова.Настоящее рождается из прошлого(Комментариев: 3)
 Архитектор Барый Калимуллин жил в невероятно сложное время. С одной стороны, на месте деревень и рабочих поселков росли новые города, а с другой - разрушались храмы, и за одно только использование восточного узора в убранстве здания могли обвинить в национализме, причислить к «буржуазным националистам» и даже расстрелять.
В 1930-х годах в архитектуре Башкортостана нарабатывался целый культурный пласт, происходил переход от конструктивизма к неоклассике. Этот период назвали постконструктивизмом. В нашем городе есть дома, построенные в стиле тех лет. Среди них и такие, что были сооружены по проектам Калимуллина. Раньше, на фоне типовых пятиэтажек, расплодившихся после принятия в 1957 году постановления Совмина «О развитии жилищного строительства в СССР», они сохраняли свою индивидуальность. Да и сегодня, в окружении элитных домов, еще держат форму, как бодрые старички, которых природа одарила высоким иммунитетом. Архитектор Барый Калимуллин жил в невероятно сложное время. С одной стороны, на месте деревень и рабочих поселков росли новые города, а с другой - разрушались храмы, и за одно только использование восточного узора в убранстве здания могли обвинить в национализме, причислить к «буржуазным националистам» и даже расстрелять.
В 1930-х годах в архитектуре Башкортостана нарабатывался целый культурный пласт, происходил переход от конструктивизма к неоклассике. Этот период назвали постконструктивизмом. В нашем городе есть дома, построенные в стиле тех лет. Среди них и такие, что были сооружены по проектам Калимуллина. Раньше, на фоне типовых пятиэтажек, расплодившихся после принятия в 1957 году постановления Совмина «О развитии жилищного строительства в СССР», они сохраняли свою индивидуальность. Да и сегодня, в окружении элитных домов, еще держат форму, как бодрые старички, которых природа одарила высоким иммунитетом.Уфимская сирень Михаила Осоргина
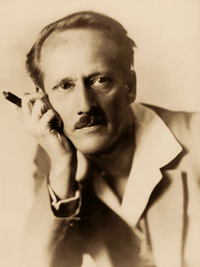 Русский писатель Михаил Андреевич Осоргин (Ильин) (1878-1942) прожил необычайно насыщенную и трагическую жизнь. Проведя половину жизни в эмиграции (в Италии и Франции), он был прочно связан своими корнями с уральской природой, городами Пермью и Уфой, реками Камой, Белой и Дёмой. Вся его прихотливая судьба могла бы послужить ярким и суровым уроком современной отечественной интеллигенции, если бы она когда-нибудь захотела признать свою ответственность за трагический ход русской истории в ХХ веке. Но поскольку, как сказал поэт, мы ленивы и нелюбопытны, то жизнь и творчество писателя Осоргина в нашей стране остаётся уделом внимания исследователей-одиночек. Между тем, в Европе и США его книги до сих пор активно переиздаются не только на русском, но и на многих других языках, и не только читаются, но и вдумчиво изучаются. Ведь в произведениях этого писателя с большой глубиной и талантом, честно и с большим знанием дела рассказывается о том, как и почему могучая и успешно развивающаяся Россия погрузилась сначала в кровавую пучину террора, а потом во мглу революций и гражданской войны. Русский писатель Михаил Андреевич Осоргин (Ильин) (1878-1942) прожил необычайно насыщенную и трагическую жизнь. Проведя половину жизни в эмиграции (в Италии и Франции), он был прочно связан своими корнями с уральской природой, городами Пермью и Уфой, реками Камой, Белой и Дёмой. Вся его прихотливая судьба могла бы послужить ярким и суровым уроком современной отечественной интеллигенции, если бы она когда-нибудь захотела признать свою ответственность за трагический ход русской истории в ХХ веке. Но поскольку, как сказал поэт, мы ленивы и нелюбопытны, то жизнь и творчество писателя Осоргина в нашей стране остаётся уделом внимания исследователей-одиночек. Между тем, в Европе и США его книги до сих пор активно переиздаются не только на русском, но и на многих других языках, и не только читаются, но и вдумчиво изучаются. Ведь в произведениях этого писателя с большой глубиной и талантом, честно и с большим знанием дела рассказывается о том, как и почему могучая и успешно развивающаяся Россия погрузилась сначала в кровавую пучину террора, а потом во мглу революций и гражданской войны.Уфимская сирень Михаила Осоргина(Комментариев: 1)
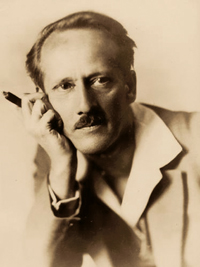 Русский писатель Михаил Андреевич Осоргин (Ильин) (1878-1942) прожил необычайно насыщенную и трагическую жизнь. Проведя половину жизни в эмиграции (в Италии и Франции), он был прочно связан своими корнями с уральской природой, городами Пермью и Уфой, реками Камой, Белой и Дёмой. Вся его прихотливая судьба могла бы послужить ярким и суровым уроком современной отечественной интеллигенции, если бы она когда-нибудь захотела признать свою ответственность за трагический ход русской истории в ХХ веке. Но поскольку, как сказал поэт, мы ленивы и нелюбопытны, то жизнь и творчество писателя Осоргина в нашей стране остаётся уделом внимания исследователей-одиночек. Между тем, в Европе и США его книги до сих пор активно переиздаются не только на русском, но и на многих других языках, и не только читаются, но и вдумчиво изучаются. Ведь в произведениях этого писателя с большой глубиной и талантом, честно и с большим знанием дела рассказывается о том, как и почему могучая и успешно развивающаяся Россия погрузилась сначала в кровавую пучину террора, а потом во мглу революций и гражданской войны. Русский писатель Михаил Андреевич Осоргин (Ильин) (1878-1942) прожил необычайно насыщенную и трагическую жизнь. Проведя половину жизни в эмиграции (в Италии и Франции), он был прочно связан своими корнями с уральской природой, городами Пермью и Уфой, реками Камой, Белой и Дёмой. Вся его прихотливая судьба могла бы послужить ярким и суровым уроком современной отечественной интеллигенции, если бы она когда-нибудь захотела признать свою ответственность за трагический ход русской истории в ХХ веке. Но поскольку, как сказал поэт, мы ленивы и нелюбопытны, то жизнь и творчество писателя Осоргина в нашей стране остаётся уделом внимания исследователей-одиночек. Между тем, в Европе и США его книги до сих пор активно переиздаются не только на русском, но и на многих других языках, и не только читаются, но и вдумчиво изучаются. Ведь в произведениях этого писателя с большой глубиной и талантом, честно и с большим знанием дела рассказывается о том, как и почему могучая и успешно развивающаяся Россия погрузилась сначала в кровавую пучину террора, а потом во мглу революций и гражданской войны.Жизнь в прямом эфире
 Зеленая лампа
«Ты не можешь этого помнить, - в один голос твердили мать с отцом, - тебе было всего полтора года». И все-таки ее младенческая память запечатлела картину прощания: папа стоит у комода, и слеза катится по его щеке. Молодой писатель и поэт Акрам Вали уходил на фронт.
Спустя три года однажды ночью мама разбудила ее и, прижав к себе, сказала: «Доченька, война кончилась! Скоро папа вернется!» Домой Акрам Вали приехал лишь осенью 45-го: в боях за Кенигсберг был тяжело ранен и попал в госпиталь. Командовал штурмовым батальоном, был награжден орденом Красного Знамени и боевыми медалями. Много лет его дочь бережно хранила уникальный документ - отцовский дневник военных лет, маленькую книжечку с обложкой строевого устава пехоты РККА. Акрам Вали начал его в августе 1943-го, будучи старшим лейтенантом Оренбургской войсковой части, и вел до штурма Кенигсберга. В 2002-м Альда Акрамовна опубликовала его в одном из толстых журналов.
В военных записях писателя немало слов, обращенных к дочери. Ее он называет то «весенней птицей», то «веселой моей звездочкой», то «самой дорогой из всех любимых песен». «Тебя одну слушал бы я не уставая. / И для того, чтобы увидеть тебя, / Готов пройти я сквозь / Все огненные версты войны». Зеленая лампа
«Ты не можешь этого помнить, - в один голос твердили мать с отцом, - тебе было всего полтора года». И все-таки ее младенческая память запечатлела картину прощания: папа стоит у комода, и слеза катится по его щеке. Молодой писатель и поэт Акрам Вали уходил на фронт.
Спустя три года однажды ночью мама разбудила ее и, прижав к себе, сказала: «Доченька, война кончилась! Скоро папа вернется!» Домой Акрам Вали приехал лишь осенью 45-го: в боях за Кенигсберг был тяжело ранен и попал в госпиталь. Командовал штурмовым батальоном, был награжден орденом Красного Знамени и боевыми медалями. Много лет его дочь бережно хранила уникальный документ - отцовский дневник военных лет, маленькую книжечку с обложкой строевого устава пехоты РККА. Акрам Вали начал его в августе 1943-го, будучи старшим лейтенантом Оренбургской войсковой части, и вел до штурма Кенигсберга. В 2002-м Альда Акрамовна опубликовала его в одном из толстых журналов.
В военных записях писателя немало слов, обращенных к дочери. Ее он называет то «весенней птицей», то «веселой моей звездочкой», то «самой дорогой из всех любимых песен». «Тебя одну слушал бы я не уставая. / И для того, чтобы увидеть тебя, / Готов пройти я сквозь / Все огненные версты войны».Минувшее проходит предо мною…
 В Уфе я никогда не был, но слово это знакомо, сколько помню себя. Во время войны мама где-то раздобыла большой лист бумаги, и мы, сидя на полу, с помощью самодельного циркуля начертили два полушария, а контуры материков, государственные границы и города перерисовали из атласа. На этой самодельной карте кроме Москвы, Владивостока, Намангана, Читы и нашего Балашова мама обозначила и свою родину - Уфу. В Уфе я никогда не был, но слово это знакомо, сколько помню себя. Во время войны мама где-то раздобыла большой лист бумаги, и мы, сидя на полу, с помощью самодельного циркуля начертили два полушария, а контуры материков, государственные границы и города перерисовали из атласа. На этой самодельной карте кроме Москвы, Владивостока, Намангана, Читы и нашего Балашова мама обозначила и свою родину - Уфу.Царственный Арслан(Комментариев: 1)
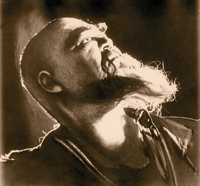 Много лет я жил по соседству с народным артистом Советского Союза. Жил, но не имел об этом ни малейшего понятия. Да и чем меня, тогдашнего мальчишку, мог заинтересовать сурового вида грузный человек в очках и неизменных плаще и шляпе? Но как-то забежали мы после школы к жившему неподалеку однокласснику. А там, у дяди Тагира - гость. Увидев нас, мужчина как-то очень тепло, как мне показалось, даже обрадованно, воскликнул: «О, ребята! Заходите, вы нам не помешаете». Позже я встречал его там ещё не раз. Это и был мой суровый на вид сосед - народный артист СССР Арслан Котлоахметович Мубаряков. Много лет я жил по соседству с народным артистом Советского Союза. Жил, но не имел об этом ни малейшего понятия. Да и чем меня, тогдашнего мальчишку, мог заинтересовать сурового вида грузный человек в очках и неизменных плаще и шляпе? Но как-то забежали мы после школы к жившему неподалеку однокласснику. А там, у дяди Тагира - гость. Увидев нас, мужчина как-то очень тепло, как мне показалось, даже обрадованно, воскликнул: «О, ребята! Заходите, вы нам не помешаете». Позже я встречал его там ещё не раз. Это и был мой суровый на вид сосед - народный артист СССР Арслан Котлоахметович Мубаряков.Открытый лист
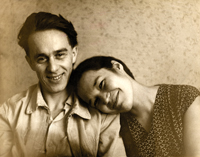 В 1995-м Мажитов вел раскопки в Хайбуллинском районе. Вначале поехал туда по собственной инициативе. Торопился, поскольку газеты писали, что вот-вот начнется строительство Таналыкского водохранилища. По закону все историко-археологические памятники, находящиеся в зоне строительных работ, должны быть предварительно изучены тщательным образом. А проектная документация не была завизирована Министерством культуры. Времени в обрез. К неудовольствию археологов, потребовалась еще одна экспертиза, хотя доподлинно было известно об остатках пяти поселений XV-XIX веков. Но недовольство затем сменилось радостью: в результате дополнительных исследований был обнаружен объект эпохи бронзы, оказавшийся уникальным памятником Аркаимского круга. Усилиями Мажитова, обратившегося в Кабинет Министров, была организована комплексная экспедиция Башгосуниверситета, Пединститута, Института истории, языка и литературы и Отдела народов Урала Уфимского научного центра РАН. В 1995-м Мажитов вел раскопки в Хайбуллинском районе. Вначале поехал туда по собственной инициативе. Торопился, поскольку газеты писали, что вот-вот начнется строительство Таналыкского водохранилища. По закону все историко-археологические памятники, находящиеся в зоне строительных работ, должны быть предварительно изучены тщательным образом. А проектная документация не была завизирована Министерством культуры. Времени в обрез. К неудовольствию археологов, потребовалась еще одна экспертиза, хотя доподлинно было известно об остатках пяти поселений XV-XIX веков. Но недовольство затем сменилось радостью: в результате дополнительных исследований был обнаружен объект эпохи бронзы, оказавшийся уникальным памятником Аркаимского круга. Усилиями Мажитова, обратившегося в Кабинет Министров, была организована комплексная экспедиция Башгосуниверситета, Пединститута, Института истории, языка и литературы и Отдела народов Урала Уфимского научного центра РАН.Культурный слой
 (Окончание, начало в №7)
Пан директор
Когда-то род Избицких принадлежал к дворянскому сословию: в семье хранится документ, подтверждающий сей исторический факт. Были у Избицких земли в Белоруссии, леса, пять деревень - словом, денег хватало на очень даже безбедную жизнь. Но вольная польская кровь оказалась сильнее тяги к благополучию: в 1832 году за участие в польском восстании дед Иосифа Антоновича был переведён в крестьянское сословие. И хотя никто из помещичьего дома его и не думал выгонять, он демонстративно поселился в крестьянской хате - халупе и надел кожух (овчинный тулуп), который уж не снимал до самой смерти.
До внуков от дедовского наследия кроме той самой халупы ничего не дошло. Как вспоминал Иосиф Антонович, в их семье имелась лишь пара сапог - для отца и двух братьев, и пара чёботов - на четырёх сестёр. Хотя дворянство Избицким и вернули в 1861-м, но богатств это не прибавило: из-за бедности Антон Избицкий стремился вывести в люди, дать образование хотя бы старшему Иосифу. После приходской (начальной) школы тот поступил в учительскую семинарию города Гродно. Но проучился чуть больше года: расходы оказались непосильными для отца. Позже Иосиф всё же сдал все экзамены экстерном и десять лет преподавал в школе. Попутно окончил агрономические курсы и вполне заслуженно прослыл большим знатоком сельского хозяйства. Словом, стал очень уважаемым человеком. Потому, когда его арестовали за откровенные призывы к свободе Польши (за политическую неблагонадёжность его даже называли «красным»), белорусские крестьяне вступились за своего учителя и агронома. (Окончание, начало в №7)
Пан директор
Когда-то род Избицких принадлежал к дворянскому сословию: в семье хранится документ, подтверждающий сей исторический факт. Были у Избицких земли в Белоруссии, леса, пять деревень - словом, денег хватало на очень даже безбедную жизнь. Но вольная польская кровь оказалась сильнее тяги к благополучию: в 1832 году за участие в польском восстании дед Иосифа Антоновича был переведён в крестьянское сословие. И хотя никто из помещичьего дома его и не думал выгонять, он демонстративно поселился в крестьянской хате - халупе и надел кожух (овчинный тулуп), который уж не снимал до самой смерти.
До внуков от дедовского наследия кроме той самой халупы ничего не дошло. Как вспоминал Иосиф Антонович, в их семье имелась лишь пара сапог - для отца и двух братьев, и пара чёботов - на четырёх сестёр. Хотя дворянство Избицким и вернули в 1861-м, но богатств это не прибавило: из-за бедности Антон Избицкий стремился вывести в люди, дать образование хотя бы старшему Иосифу. После приходской (начальной) школы тот поступил в учительскую семинарию города Гродно. Но проучился чуть больше года: расходы оказались непосильными для отца. Позже Иосиф всё же сдал все экзамены экстерном и десять лет преподавал в школе. Попутно окончил агрономические курсы и вполне заслуженно прослыл большим знатоком сельского хозяйства. Словом, стал очень уважаемым человеком. Потому, когда его арестовали за откровенные призывы к свободе Польши (за политическую неблагонадёжность его даже называли «красным»), белорусские крестьяне вступились за своего учителя и агронома.Способен и достоин
 Продолжение. Начало в №№ 6, 7.
Просидеть за решеткой ей пришлось до тех пор, пока чекистам не удалось установить связь с Петроградом и разыскать наркома продовольствия. Цюрупа, в свое время обласканный семьей "колонизатора", заявил примерно следующее: "Заварицкие много полезного сделали для России!". После таких слов семью оставили в покое. Ирину Ильиничну отпустили. Правда, с условием, что она сдаст Советской власти все ценности. На следующий день та принесла в ЧК свои драгоценности, не испытывая при этом никаких сожалений, - она всю жизнь была равнодушна к украшениям, если не считать пары милых сердцу сережек или нитки жемчуга, подаренных Николаем Александровичем. Крест, врученный настоятелем Ново-Афонского монастыря архимандритом Иларионом, разумеется, и не думала отдавать. Более того, перепрятала в надежное место.
Загадочное письмо, так напугавшее чекистов, сыграло решающую роль в освобождении Заварицких. Так что же это было за послание, и какое отношение имела к нему Ольга Николаевна? Продолжение. Начало в №№ 6, 7.
Просидеть за решеткой ей пришлось до тех пор, пока чекистам не удалось установить связь с Петроградом и разыскать наркома продовольствия. Цюрупа, в свое время обласканный семьей "колонизатора", заявил примерно следующее: "Заварицкие много полезного сделали для России!". После таких слов семью оставили в покое. Ирину Ильиничну отпустили. Правда, с условием, что она сдаст Советской власти все ценности. На следующий день та принесла в ЧК свои драгоценности, не испытывая при этом никаких сожалений, - она всю жизнь была равнодушна к украшениям, если не считать пары милых сердцу сережек или нитки жемчуга, подаренных Николаем Александровичем. Крест, врученный настоятелем Ново-Афонского монастыря архимандритом Иларионом, разумеется, и не думала отдавать. Более того, перепрятала в надежное место.
Загадочное письмо, так напугавшее чекистов, сыграло решающую роль в освобождении Заварицких. Так что же это было за послание, и какое отношение имела к нему Ольга Николаевна?Способен и достоин
 Продолжение. Начало в №6
Жену с новорожденным сыном Николай Александрович повез в Казань, только не к родным, а в больницу - во избежание всяких осложнений. Крестили Санечку 4 марта тут же - в храме Во Имя Богородицы Неопалимой Купины при Казанской земской больнице. Судя по записи в церковной книге, родственников Заварицких среди восприемников, то есть крестных, не было. Выходит, не признали. Ирину Ильиничну мать и братья не приняли, сын считался незаконнорожденным. Так и уехали обратно в Уфу несолоно хлебавши. "Будем считать, что мы никуда не ездили, а Саня родился в Уфе", - сказала, как отрезала, молодая женщина. Продолжение. Начало в №6
Жену с новорожденным сыном Николай Александрович повез в Казань, только не к родным, а в больницу - во избежание всяких осложнений. Крестили Санечку 4 марта тут же - в храме Во Имя Богородицы Неопалимой Купины при Казанской земской больнице. Судя по записи в церковной книге, родственников Заварицких среди восприемников, то есть крестных, не было. Выходит, не признали. Ирину Ильиничну мать и братья не приняли, сын считался незаконнорожденным. Так и уехали обратно в Уфу несолоно хлебавши. "Будем считать, что мы никуда не ездили, а Саня родился в Уфе", - сказала, как отрезала, молодая женщина.Человек, построивший школу
 Стоит в Старой Уфе на улице Менделеева большое здание. Недавно его капитально отремонтировали, после повторного открытия появилась на нём и новая вывеска: "Центр образования №19 им. Б.И. Северинова". Много "именных" школ было в истории нашего города - имени Кузнецова, имени Галановой, имени Байковой, имени Горького, "памяти Ленина", но как-то исподволь все эти некогда громкие имена подзабылись и перестали употребляться, иногда и не совсем оправданно. И вдруг школе, которой от роду уж лет семьдесят, присвоено новое имя. А ведь и вправду - не так давно 19-я школа и Северинов были абсолютно неразделимы. Стоит в Старой Уфе на улице Менделеева большое здание. Недавно его капитально отремонтировали, после повторного открытия появилась на нём и новая вывеска: "Центр образования №19 им. Б.И. Северинова". Много "именных" школ было в истории нашего города - имени Кузнецова, имени Галановой, имени Байковой, имени Горького, "памяти Ленина", но как-то исподволь все эти некогда громкие имена подзабылись и перестали употребляться, иногда и не совсем оправданно. И вдруг школе, которой от роду уж лет семьдесят, присвоено новое имя. А ведь и вправду - не так давно 19-я школа и Северинов были абсолютно неразделимы.Золотой песок(Комментариев: 1)
 Гипотезы - это леса, которые возводят перед зданием и сносят, когда здание готово…
И. Гете
Разговоры о "дикости" тюркских кочевников и "отсталости" восточных славян - хитрая выдумка дипломатов эпохи крестовых походов, уцелевшая до ХХ века как обывательская клевета.
Л. Гумилев
Когда в 1952-м Яков Гельблу приехал в Уфу насовсем, у него не было ощущения, что он попал в совершенно незнакомый город. Лейтенант Гельблу был здесь осенью 1942-го, когда его из действующей армии послали в командировку в восточные районы, в том числе и в Уфу - всего на сутки. Сюда был эвакуирован дорогой ему человек. Он разыскал его в одном из двухэтажных старинных домов на Социалистической, проговорил с ним до рассвета, а серым утром отправился на вокзал. Гельблу слегка заплутал, так как был сильно взволнован этой встречей, бродил по безлюдным улицам, потом наконец вышел на Ленина в районе Дома пионеров и быстро зашагал вниз, к поезду. Человек, с которым он провел бессонную ночь на застекленной веранде, сидя на скрипучем венском стуле, выкуривая папиросу за папиросой, был его старым учителем. Академик Украинской Академии наук, один из крупнейших специалистов по иностранным языкам того времени Михаил Яковлевич Калинович в Уфе возглавлял секцию общественных наук, он сделал многое для того, чтобы в трудных условиях эвакуации, в самый разгар войны, заработали институты экономики, языка и литературы, истории и археологии, народного творчества и культуры. В 1930-х он преподавал общее языкознание в Украинском институте лингвистического образования (УИЛО) в Киеве. В 1932-м 21-летний Яша поступил туда на факультет немецкого языка. Его мечта сбылась. Языки давались ему легко. В селе Ладыжине Каменец-Подольской губернии, где он родился в 1911 году, еще в Российской империи, население состояло из украинцев, русских, поляков и евреев. Все одинаково хорошо говорили на всех четырех языках. Когда-то в Ладыжине была одна из ставок Золотой Орды, поэтому названия населенных пунктов в этой исторической местности сохранили тюркское окончание -ин - Гайсин, Тульчин (родовая вотчина Суворова) и так далее. В 1916-м отец, Иосиф Гельблу, вернулся с военной службы. В 1920-м жена его Рахиль родила Мирру, в 1923-м - Ефима. Позже семья перебралась в Винницу. Гипотезы - это леса, которые возводят перед зданием и сносят, когда здание готово…
И. Гете
Разговоры о "дикости" тюркских кочевников и "отсталости" восточных славян - хитрая выдумка дипломатов эпохи крестовых походов, уцелевшая до ХХ века как обывательская клевета.
Л. Гумилев
Когда в 1952-м Яков Гельблу приехал в Уфу насовсем, у него не было ощущения, что он попал в совершенно незнакомый город. Лейтенант Гельблу был здесь осенью 1942-го, когда его из действующей армии послали в командировку в восточные районы, в том числе и в Уфу - всего на сутки. Сюда был эвакуирован дорогой ему человек. Он разыскал его в одном из двухэтажных старинных домов на Социалистической, проговорил с ним до рассвета, а серым утром отправился на вокзал. Гельблу слегка заплутал, так как был сильно взволнован этой встречей, бродил по безлюдным улицам, потом наконец вышел на Ленина в районе Дома пионеров и быстро зашагал вниз, к поезду. Человек, с которым он провел бессонную ночь на застекленной веранде, сидя на скрипучем венском стуле, выкуривая папиросу за папиросой, был его старым учителем. Академик Украинской Академии наук, один из крупнейших специалистов по иностранным языкам того времени Михаил Яковлевич Калинович в Уфе возглавлял секцию общественных наук, он сделал многое для того, чтобы в трудных условиях эвакуации, в самый разгар войны, заработали институты экономики, языка и литературы, истории и археологии, народного творчества и культуры. В 1930-х он преподавал общее языкознание в Украинском институте лингвистического образования (УИЛО) в Киеве. В 1932-м 21-летний Яша поступил туда на факультет немецкого языка. Его мечта сбылась. Языки давались ему легко. В селе Ладыжине Каменец-Подольской губернии, где он родился в 1911 году, еще в Российской империи, население состояло из украинцев, русских, поляков и евреев. Все одинаково хорошо говорили на всех четырех языках. Когда-то в Ладыжине была одна из ставок Золотой Орды, поэтому названия населенных пунктов в этой исторической местности сохранили тюркское окончание -ин - Гайсин, Тульчин (родовая вотчина Суворова) и так далее. В 1916-м отец, Иосиф Гельблу, вернулся с военной службы. В 1920-м жена его Рахиль родила Мирру, в 1923-м - Ефима. Позже семья перебралась в Винницу.Картинки из моей жизни
 Воспоминания - единственный рай, из которого нас никто не может выгнать
Оноре Бальзак
На старости я сызнова живу,
минувшее проходит предо мною.
Из драмы А.С.Пушкина "Борис Годунов".
"Прямо поперёк улицы весной разливалось широкое озеро, затопляя и дорогу, и дворы", - строка из воспоминаний Искандара Гарифовича Нуреева - живого свидетеля истории нашего города всего советского периода - он родился в конце 1919 года. Нуреев не просто многое помнит - он записывает свои воспоминания, на сегодняшний день ими заполнены четыре толстенные тетради. Читать их - огромное удовольствие, ведь таких подробностей тогдашней жизни уже почти никто нам не расскажет. А ещё Нуреев - образец того, как надо вести домашний архив: все снимки в его фотоальбоме подписаны, и не надо гадать, кто на них изображён. Воспоминания - единственный рай, из которого нас никто не может выгнать
Оноре Бальзак
На старости я сызнова живу,
минувшее проходит предо мною.
Из драмы А.С.Пушкина "Борис Годунов".
"Прямо поперёк улицы весной разливалось широкое озеро, затопляя и дорогу, и дворы", - строка из воспоминаний Искандара Гарифовича Нуреева - живого свидетеля истории нашего города всего советского периода - он родился в конце 1919 года. Нуреев не просто многое помнит - он записывает свои воспоминания, на сегодняшний день ими заполнены четыре толстенные тетради. Читать их - огромное удовольствие, ведь таких подробностей тогдашней жизни уже почти никто нам не расскажет. А ещё Нуреев - образец того, как надо вести домашний архив: все снимки в его фотоальбоме подписаны, и не надо гадать, кто на них изображён.
Немеркнущий свет
 Тот осенний день я часто вспоминаю до сих пор, спустя сорок лет, хотя, на первый взгляд, ничего необычного тогда не произошло. Как сейчас вижу себя скользящим по только что замерзшим лужам, идущий позади отец несет мое новое приобретение - книгу. Меня распирал восторг. Нет, не впервые увиденные библиотечные полки - под потолок - удивили меня: я был поражен тем, с какой легкостью могу стать обладателем, хотя бы и на время, любой, даже самой инте-ресной книги. Тот осенний день я часто вспоминаю до сих пор, спустя сорок лет, хотя, на первый взгляд, ничего необычного тогда не произошло. Как сейчас вижу себя скользящим по только что замерзшим лужам, идущий позади отец несет мое новое приобретение - книгу. Меня распирал восторг. Нет, не впервые увиденные библиотечные полки - под потолок - удивили меня: я был поражен тем, с какой легкостью могу стать обладателем, хотя бы и на время, любой, даже самой инте-ресной книги.Наследницы(Комментариев: 4)
 Как человек обстоятельный, в свои сорок с небольшим лет Павел Васильевич не мог позволить себе даже выглядеть суетливым, и потому, когда дежурный подал второй звонок, он, не прерывая разговора с компаньоном, стал неспешно расплачиваться с буфетчиком. Выходя на перрон, услышал третий звонок. Только тогда спохватился, что до вагона-то ещё надо дойти, и прибавил шагу. Поезд тронулся, кондуктор махал ему флажком... Как человек обстоятельный, в свои сорок с небольшим лет Павел Васильевич не мог позволить себе даже выглядеть суетливым, и потому, когда дежурный подал второй звонок, он, не прерывая разговора с компаньоном, стал неспешно расплачиваться с буфетчиком. Выходя на перрон, услышал третий звонок. Только тогда спохватился, что до вагона-то ещё надо дойти, и прибавил шагу. Поезд тронулся, кондуктор махал ему флажком...Выжженная земля(Комментариев: 1)
 В 1948 году в Максимовской школе №3, в пригороде Уфы, появился новый учитель рисования и черчения - фронтовик, еще совсем молодой человек привлекательной наружности. Владимир Пустарнаков был по-настоящему красив: голубые, немного грустные глаза, золотисто-русые волосы, спортивное телосложение, а еще добавьте к этому низкий, сильный голос бархатного тембра, в котором то и дело звучали властные, не терпящие возражения интонации. На его уроках не шумели, объяснял он толково и интересно, был строг, но справедлив. Просочились слухи, что на войне он командовал пулеметным взводом, был тяжело ранен, чудом выжил... В 1948 году в Максимовской школе №3, в пригороде Уфы, появился новый учитель рисования и черчения - фронтовик, еще совсем молодой человек привлекательной наружности. Владимир Пустарнаков был по-настоящему красив: голубые, немного грустные глаза, золотисто-русые волосы, спортивное телосложение, а еще добавьте к этому низкий, сильный голос бархатного тембра, в котором то и дело звучали властные, не терпящие возражения интонации. На его уроках не шумели, объяснял он толково и интересно, был строг, но справедлив. Просочились слухи, что на войне он командовал пулеметным взводом, был тяжело ранен, чудом выжил...Человек из Дворца(Комментариев: 1)
 В 1876 году в семье уфимского мещанина Ивана Абрамова, служившего мелким государственным чиновником, родился сын Федор, с детства удивлявший всех своими талантами. Мальчик отличался редким музыкальным слухом, а в его рисунках была линия: он мог одним росчерком, не отрываясь, изобразить любой предмет, чем приводил в восхищение и детей, и взрослых. Рисовал он правильно, даже слишком точно. За что и пострадал впоследствии. Он уже учился в Казанском художественном училище, когда кто-то из преподавателей ему прямо заявил: "Какой из вас художник? Вы же, Абрамов, чертежник, причем превосходный"... В 1876 году в семье уфимского мещанина Ивана Абрамова, служившего мелким государственным чиновником, родился сын Федор, с детства удивлявший всех своими талантами. Мальчик отличался редким музыкальным слухом, а в его рисунках была линия: он мог одним росчерком, не отрываясь, изобразить любой предмет, чем приводил в восхищение и детей, и взрослых. Рисовал он правильно, даже слишком точно. За что и пострадал впоследствии. Он уже учился в Казанском художественном училище, когда кто-то из преподавателей ему прямо заявил: "Какой из вас художник? Вы же, Абрамов, чертежник, причем превосходный"...Печальный вальс(Комментариев: 2)
 Все любят таинственные истории. Но та, что несколько лет назад была опубликована в одной из уфимских газет, при всей своей занимательности, задела меня совсем с другой стороны. Уфимский дворик, о котором шла речь, был мне знаком чуть ли не с рожденья как двор детства моего отца. Родной дом его остался лишь в памяти - в той давней одноэтажной Уфе, как мираж, растаявшей в последние десятилетия прямо на наших глазах. С любопытством прочитал я в газете о том, как в начале 20-х годов в дом, стоявший на углу Ильинской и Спасской (нынешних улиц Фрунзе и Новомостовой), попросилась на ночлег убогая, сгорбленная старушка... Все любят таинственные истории. Но та, что несколько лет назад была опубликована в одной из уфимских газет, при всей своей занимательности, задела меня совсем с другой стороны. Уфимский дворик, о котором шла речь, был мне знаком чуть ли не с рожденья как двор детства моего отца. Родной дом его остался лишь в памяти - в той давней одноэтажной Уфе, как мираж, растаявшей в последние десятилетия прямо на наших глазах. С любопытством прочитал я в газете о том, как в начале 20-х годов в дом, стоявший на углу Ильинской и Спасской (нынешних улиц Фрунзе и Новомостовой), попросилась на ночлег убогая, сгорбленная старушка... |
|
 |
 |
 |
 |
 |
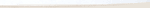 |
 |
|
|
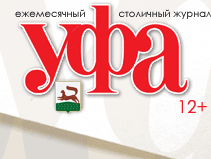


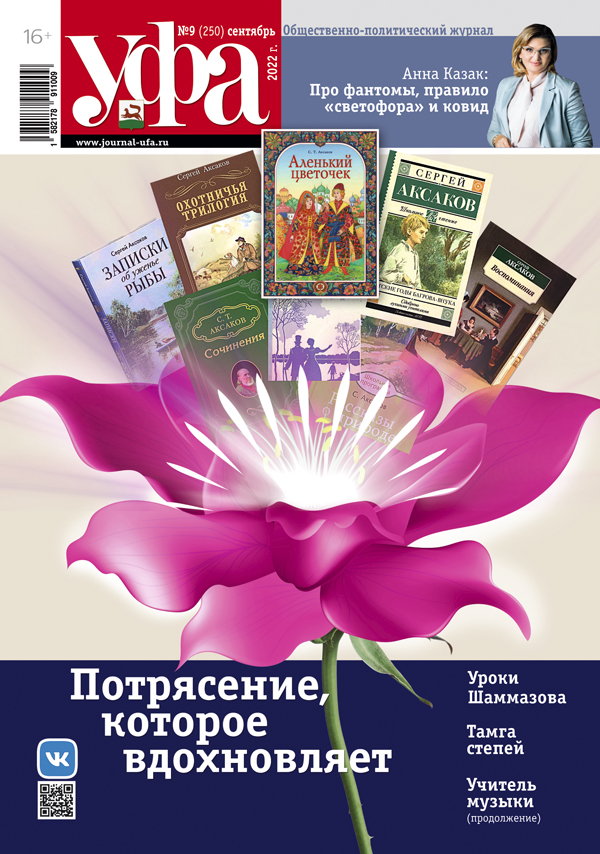

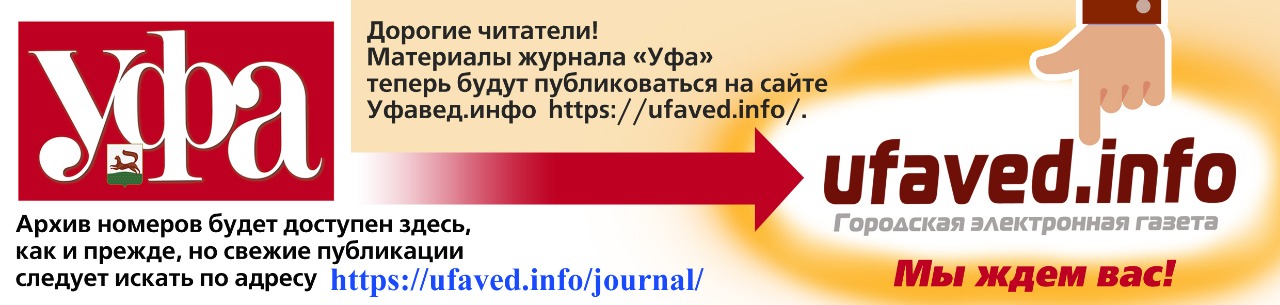

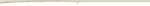


 Летом 18-го
Уже состарившись, Екатерина Александровна рассказывала внучке Оле, как строился дом на улице Цюрупы. И утверждала, что дубовые брёвна для сруба Пётр Петрович привёз аж из Финляндии. В Европе же была куплена и голубая ель, которую граф посадил у своего дома.
Внучка Толстых Ольга Александровна показывает мне фотографии приезжавших в разные годы в Уфу артистов. На каждой – благодарность Екатерине Александровне, ведь «товарищ Толстая» частенько выступала в качестве аккомпаниатора. А вот и семейные снимки её деда и бабушки, ещё дореволюционные: красивые, уверенные в себе и в своём будущем люди, родители двух чудесных мальчишек. Старшего – Петра, мать называла Петей или Путей, а младшего – Александра, Шурашей…
Летом 18-го
Уже состарившись, Екатерина Александровна рассказывала внучке Оле, как строился дом на улице Цюрупы. И утверждала, что дубовые брёвна для сруба Пётр Петрович привёз аж из Финляндии. В Европе же была куплена и голубая ель, которую граф посадил у своего дома.
Внучка Толстых Ольга Александровна показывает мне фотографии приезжавших в разные годы в Уфу артистов. На каждой – благодарность Екатерине Александровне, ведь «товарищ Толстая» частенько выступала в качестве аккомпаниатора. А вот и семейные снимки её деда и бабушки, ещё дореволюционные: красивые, уверенные в себе и в своём будущем люди, родители двух чудесных мальчишек. Старшего – Петра, мать называла Петей или Путей, а младшего – Александра, Шурашей…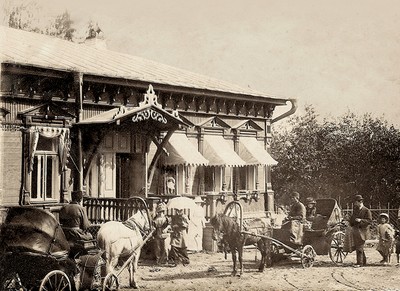 «Графиня с изменившимся лицом бежит к пруду…» - эту комментирующую трагедию семьи Льва Николаевича Толстого фразу знало, похоже, всё читающее население Советского Союза. И вовсе не потому, что наши граждане благоговейно изучали историю бегства великого писателя из Ясной Поляны: поклонников «Золотого телёнка» (и телеграммы Остапа Бендера с таким текстом) было по понятным причинам значительно больше. Но сегодня я остановлюсь на далеко не весёлой истории жизни совсем другой семьи и совсем другой графини, но с той же звучной фамилией - Толстая…
«Графиня с изменившимся лицом бежит к пруду…» - эту комментирующую трагедию семьи Льва Николаевича Толстого фразу знало, похоже, всё читающее население Советского Союза. И вовсе не потому, что наши граждане благоговейно изучали историю бегства великого писателя из Ясной Поляны: поклонников «Золотого телёнка» (и телеграммы Остапа Бендера с таким текстом) было по понятным причинам значительно больше. Но сегодня я остановлюсь на далеко не весёлой истории жизни совсем другой семьи и совсем другой графини, но с той же звучной фамилией - Толстая…
 «Потрясающе, что люди с нуля начинали. Сложно нам сейчас это представить, когда есть и развитие, и учебники, и всё...» - рассказывала о первых российских историках-ученых Наталья Демидова, чьи труды потом вошли в учебники и позволили поднять на качественно новый уровень работу нескольких поколений последователей.
Ни одна из советских автономий тогда не получила столь обширного, подтвержденного документальными материалами исторического труда, когда в 1949 году вышла в свет ее книга «Материалы по истории Башкирской АССР», а в последующие годы еще пять томов. Особое значение историк придавала и изучению Уфы, внеся большой вклад в создание источниковой базы по истории основания города.
Пытливость ума и жажда знаний достались Наталье Федоровне от родителей, сельских учителей. Родилась она 27 октября 1920 года в Новом Поселке Орловской губернии. «У меня биография очень пестрая, потому что мы постоянно переезжали. В 1933 году приехали в Москву, жили за городом, потом по месту работы отца получили жилье в коммунальной квартире», - вспоминает она.
«Потрясающе, что люди с нуля начинали. Сложно нам сейчас это представить, когда есть и развитие, и учебники, и всё...» - рассказывала о первых российских историках-ученых Наталья Демидова, чьи труды потом вошли в учебники и позволили поднять на качественно новый уровень работу нескольких поколений последователей.
Ни одна из советских автономий тогда не получила столь обширного, подтвержденного документальными материалами исторического труда, когда в 1949 году вышла в свет ее книга «Материалы по истории Башкирской АССР», а в последующие годы еще пять томов. Особое значение историк придавала и изучению Уфы, внеся большой вклад в создание источниковой базы по истории основания города.
Пытливость ума и жажда знаний достались Наталье Федоровне от родителей, сельских учителей. Родилась она 27 октября 1920 года в Новом Поселке Орловской губернии. «У меня биография очень пестрая, потому что мы постоянно переезжали. В 1933 году приехали в Москву, жили за городом, потом по месту работы отца получили жилье в коммунальной квартире», - вспоминает она.  У известного российского ученого, политика и общественного деятеля Александра Дегтярева в апреле юбилей. Мог ли паренек из башкирской глубинки представить, что его ждет такая насыщенная и яркая жизнь? Но предпосылки к этому были. Он вырос в учительской семье, где слова «честь», «правда», «ответственность» не были пустым звуком. Об этом говорит вся история рода Дегтяревых.
В Бирском районе, километрах в семидесяти от Уфы, на холмистой местности, покрытой перелесками, на правом берегу Белой раскинулось село Старо-Петрово. Из трех его улиц две протянулись с востока на запад, а третья - вдоль гужевого зимнего пути из Янаула в Уфу.
У известного российского ученого, политика и общественного деятеля Александра Дегтярева в апреле юбилей. Мог ли паренек из башкирской глубинки представить, что его ждет такая насыщенная и яркая жизнь? Но предпосылки к этому были. Он вырос в учительской семье, где слова «честь», «правда», «ответственность» не были пустым звуком. Об этом говорит вся история рода Дегтяревых.
В Бирском районе, километрах в семидесяти от Уфы, на холмистой местности, покрытой перелесками, на правом берегу Белой раскинулось село Старо-Петрово. Из трех его улиц две протянулись с востока на запад, а третья - вдоль гужевого зимнего пути из Янаула в Уфу.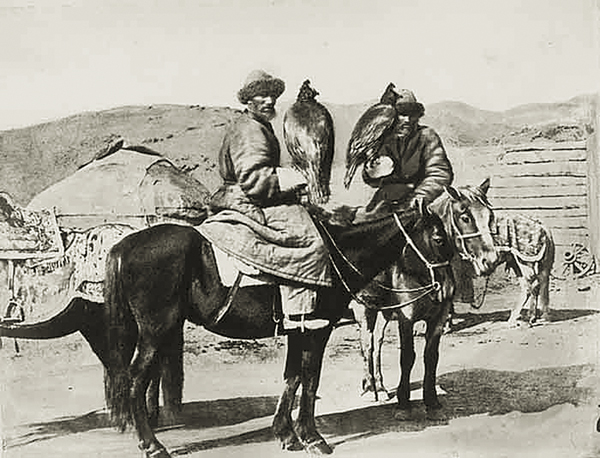 На Руси охота с ловчими птицами упоминается еще в былинах. Во всяком случае, к XIV веку относится учреждение специальных слуг при великокняжеском дворе - сокольников, промышлявших ловчих птиц по разным уездам. Позднее к ХVI в придворных званиях царского двора появился чин сокольничего, что давало ему возможность претендовать на должность городового воеводы. Расцвет соколиной охоты пришелся на правление Алексея Михайловича (1629-1676), который собственноручно написал наставление но такой охоте. Судя по этому труду, все лица, имевшие отношение к ней, приравнивались к московскому дворянству. Сокольники владели поместьями, вотчинами, крепостными. Помытчики, ответственные за ловлю и воспитание птиц, освобождались от большинства денежных и натуральных повинностей. Это была привилегированная царская служба.
На Руси охота с ловчими птицами упоминается еще в былинах. Во всяком случае, к XIV веку относится учреждение специальных слуг при великокняжеском дворе - сокольников, промышлявших ловчих птиц по разным уездам. Позднее к ХVI в придворных званиях царского двора появился чин сокольничего, что давало ему возможность претендовать на должность городового воеводы. Расцвет соколиной охоты пришелся на правление Алексея Михайловича (1629-1676), который собственноручно написал наставление но такой охоте. Судя по этому труду, все лица, имевшие отношение к ней, приравнивались к московскому дворянству. Сокольники владели поместьями, вотчинами, крепостными. Помытчики, ответственные за ловлю и воспитание птиц, освобождались от большинства денежных и натуральных повинностей. Это была привилегированная царская служба. Когда-то эта, в общем-то, небольшая улица имела едва ли не высший статус, ведь на ней располагалась резиденция начальника всего края – уфимского губернатора. Вот и название своё она получила именно потому, что на ней стоял дом губернатора. Удивительно то, что и при советской власти она продолжала выполнять функции, связанные с «высшим руководством», – здесь находились органы законодательной и исполнительной власти, а также областной комитет КПСС.
Впрочем, «важное» название улицы нисколько не мешало ей долгие годы оставаться в последних рядах по благоустройству. Писатель и библиограф Сергей Рудольфович Минцлов, некоторое время живший в Уфе, вспоминал о проведённых в нашем городе апрельских днях 1910 года: «Бродил по Уфе; осматривать в ней, собственно говоря, нечего: дома в большинстве, т.е. вернее – за редкими исключениями, сплошь деревянные. Зелени в городе мало, но есть парк; грязь в изобилии, снег с улиц, конечно, не счищают... Особенно изумительно грязна Губернаторская улица – она залита жидкою грязью и перейти через неё нечего и думать. Дважды был вынужден проехать по ней, и пролётка вязла более чем на четверть аршина».
Когда-то эта, в общем-то, небольшая улица имела едва ли не высший статус, ведь на ней располагалась резиденция начальника всего края – уфимского губернатора. Вот и название своё она получила именно потому, что на ней стоял дом губернатора. Удивительно то, что и при советской власти она продолжала выполнять функции, связанные с «высшим руководством», – здесь находились органы законодательной и исполнительной власти, а также областной комитет КПСС.
Впрочем, «важное» название улицы нисколько не мешало ей долгие годы оставаться в последних рядах по благоустройству. Писатель и библиограф Сергей Рудольфович Минцлов, некоторое время живший в Уфе, вспоминал о проведённых в нашем городе апрельских днях 1910 года: «Бродил по Уфе; осматривать в ней, собственно говоря, нечего: дома в большинстве, т.е. вернее – за редкими исключениями, сплошь деревянные. Зелени в городе мало, но есть парк; грязь в изобилии, снег с улиц, конечно, не счищают... Особенно изумительно грязна Губернаторская улица – она залита жидкою грязью и перейти через неё нечего и думать. Дважды был вынужден проехать по ней, и пролётка вязла более чем на четверть аршина».  Отметив в начале ноября 2021 года трехсотлетие Российской империи, мало кто задумался над тем, что титул императора, принятый Петром I, не привнес ничего нового в статус российского государства. До 1721 года краткий официальный титул российского монарха, используемый в делопроизводстве, формулировался так: «Государь, Царь и Великий князь всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец». Безусловно, ключевым словом в кратком титуле было слово «царь», потому и страна называлась Российским царством. Кстати, слово «Россия» не является самоназванием. В отличие от понятия «Русь», оно пришло к нам из Византийской империи. При Иване Грозном слово «Россия» вошло в обиход, но только при Петре I его стали писать с двумя буквами «с».
Отметив в начале ноября 2021 года трехсотлетие Российской империи, мало кто задумался над тем, что титул императора, принятый Петром I, не привнес ничего нового в статус российского государства. До 1721 года краткий официальный титул российского монарха, используемый в делопроизводстве, формулировался так: «Государь, Царь и Великий князь всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец». Безусловно, ключевым словом в кратком титуле было слово «царь», потому и страна называлась Российским царством. Кстати, слово «Россия» не является самоназванием. В отличие от понятия «Русь», оно пришло к нам из Византийской империи. При Иване Грозном слово «Россия» вошло в обиход, но только при Петре I его стали писать с двумя буквами «с». Была прежде распространена такая «единица» измерения расстояния, как квартал: «Близко, всего два квартала пройти», – объясняли всезнающие бабушки приезжему. Но почему-то наши прежние архитекторы частенько выступали в качестве антикварталистов, ставя свои домики прямо поперёк улиц. В результате исчезали не только кварталы, но и короткие улицы. К счастью, тот отрезок улицы Аксакова, о котором речь пойдёт ниже, той печальной участи избежал, хотя прежде улица начиналась выше и самый первый её квартал «проглотил» комплекс зданий БГУ.
Была прежде распространена такая «единица» измерения расстояния, как квартал: «Близко, всего два квартала пройти», – объясняли всезнающие бабушки приезжему. Но почему-то наши прежние архитекторы частенько выступали в качестве антикварталистов, ставя свои домики прямо поперёк улиц. В результате исчезали не только кварталы, но и короткие улицы. К счастью, тот отрезок улицы Аксакова, о котором речь пойдёт ниже, той печальной участи избежал, хотя прежде улица начиналась выше и самый первый её квартал «проглотил» комплекс зданий БГУ. Минувшая избирательная кампания добавила в рабочий блокнот депутата Госдумы Павла Качкаева новые фамилии и список дел - кому что обещано, не считая сотни выполненных наказов: от застекленных окон, проведенного газа ветеранам, инвалидам, многодетным, до благоустроенных дорог и дворов в селах и городах республики. И когда накануне выборов Качкаев в очередной раз решал проблему жительницы Инорса, не входящего, кстати, в его округ, я вдруг вспомнила давнюю историю из учительской практики его мамы - Татьяны Филипповны Качкаевой (Рапиной).
Минувшая избирательная кампания добавила в рабочий блокнот депутата Госдумы Павла Качкаева новые фамилии и список дел - кому что обещано, не считая сотни выполненных наказов: от застекленных окон, проведенного газа ветеранам, инвалидам, многодетным, до благоустроенных дорог и дворов в селах и городах республики. И когда накануне выборов Качкаев в очередной раз решал проблему жительницы Инорса, не входящего, кстати, в его округ, я вдруг вспомнила давнюю историю из учительской практики его мамы - Татьяны Филипповны Качкаевой (Рапиной). Окончание. Начало в мартовском номере.
Лейба Дворжецъ
Этот классический гуманитарий был худощав, носил франтоватые с заостренными торчавшими кверху концами английские усы, требовавшие хорошего куафера. Галстук-бабочка дополнял его облик. Он происходил из Минска, где жило немало его родных, настоящий клан владельцев мощного типографского концерна, врачей. Дворжецы состояли в родстве с крупнейшими предпринимателями Лесками. Соломон Антонович владел магазином одежды и аксессуаров на Верхнеторговой площади, и был похоронен в Уфе после неудачной операции в Германии.
Окончание. Начало в мартовском номере.
Лейба Дворжецъ
Этот классический гуманитарий был худощав, носил франтоватые с заостренными торчавшими кверху концами английские усы, требовавшие хорошего куафера. Галстук-бабочка дополнял его облик. Он происходил из Минска, где жило немало его родных, настоящий клан владельцев мощного типографского концерна, врачей. Дворжецы состояли в родстве с крупнейшими предпринимателями Лесками. Соломон Антонович владел магазином одежды и аксессуаров на Верхнеторговой площади, и был похоронен в Уфе после неудачной операции в Германии.  Вещи порой долговечнее людей. Это же можно сказать и о старинных зданиях, сохранившихся на главной улице Уфы - Большой Казанской (ныне Октябрьской Революции). Здесь, на пересечении с Центральной (Ленина), находился знаменитый аптекарский магазин Лейбы Дворжеца, а в самом конце - завод Иоселя Гутмана. Их владельцы - одни из самых богатых людей Уфы конца XIX - начала XX века - давно канули в реку истории. О том, что стало с ними после 1917 года, известно немного.
Вещи порой долговечнее людей. Это же можно сказать и о старинных зданиях, сохранившихся на главной улице Уфы - Большой Казанской (ныне Октябрьской Революции). Здесь, на пересечении с Центральной (Ленина), находился знаменитый аптекарский магазин Лейбы Дворжеца, а в самом конце - завод Иоселя Гутмана. Их владельцы - одни из самых богатых людей Уфы конца XIX - начала XX века - давно канули в реку истории. О том, что стало с ними после 1917 года, известно немного.  «Визитной карточкой» Черниковки были и остаются две восьмиэтажки и бульвар перед ними. Но имя человека, который 70 лет назад первым представил, каким станет это место в будущем, до последнего времени было узнать не так просто. В далёком уголке Южного кладбища спит вечным сном заслуженный строитель РСФСР, кавалер шести правительственных наград, бывший главный архитектор Черниковска Маргарита Николаевна Куприянова (18.08.1918 – 03.01.2003).
«Визитной карточкой» Черниковки были и остаются две восьмиэтажки и бульвар перед ними. Но имя человека, который 70 лет назад первым представил, каким станет это место в будущем, до последнего времени было узнать не так просто. В далёком уголке Южного кладбища спит вечным сном заслуженный строитель РСФСР, кавалер шести правительственных наград, бывший главный архитектор Черниковска Маргарита Николаевна Куприянова (18.08.1918 – 03.01.2003).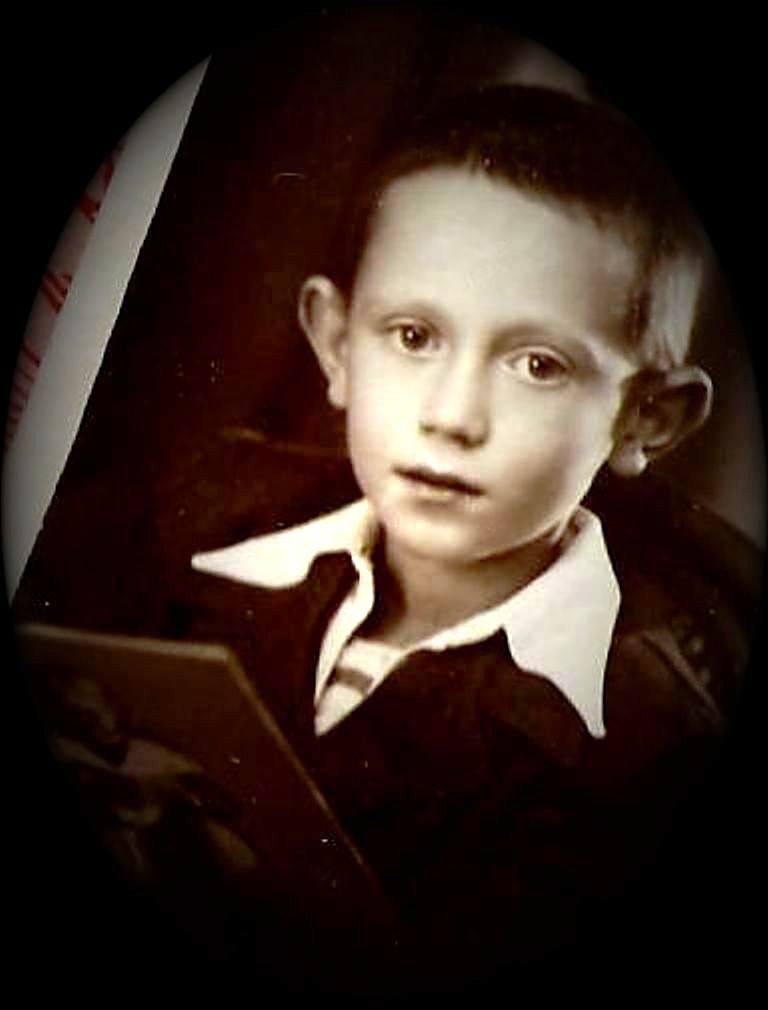 (Окончание, начало в №12 2020 г.)
Новый год мальчик встречал вместе со всеми, но сразу после боя курантов его отправляли спать. Арано-рано утром первого января под ёлкой оказывались подарки, но, несмотря на запланированные засады, «застукать» Деда Мороза за работой мальчику ни разу не удалось.
Давным-давно
Как-то быстро выветрилась из нашей памяти обязательная процедура подготовки к зиме – «про тыкивание» окон ватой с последующим заклеиванием полосками газетной бумаги. А ведь так делали все! У большей части населения нашего города (как и страны) быт в середине прошлого века вышел прямо из века девятнадцатого: дровяное отопление, вместо водопровода умывальник с гвоздиком-клапаном. Вот и Карнауховы воду носили с колонки и выливали её в большую дубовую бочку на кухне. Квартира считалась большой, и потому кроме русской печи на кухне имелись ещё две «голландки» – украшенная изразцами и круглая, обитая железом. Огонь в вечерней печи – одно из самых тёплых воспоминаний ранних лет. И ещё одна сказочная картинка из детства: заваленный снегом дом со сверкающими на солнце сосульками и «пушистыми дымами над всеми тремя трубами»…
(Окончание, начало в №12 2020 г.)
Новый год мальчик встречал вместе со всеми, но сразу после боя курантов его отправляли спать. Арано-рано утром первого января под ёлкой оказывались подарки, но, несмотря на запланированные засады, «застукать» Деда Мороза за работой мальчику ни разу не удалось.
Давным-давно
Как-то быстро выветрилась из нашей памяти обязательная процедура подготовки к зиме – «про тыкивание» окон ватой с последующим заклеиванием полосками газетной бумаги. А ведь так делали все! У большей части населения нашего города (как и страны) быт в середине прошлого века вышел прямо из века девятнадцатого: дровяное отопление, вместо водопровода умывальник с гвоздиком-клапаном. Вот и Карнауховы воду носили с колонки и выливали её в большую дубовую бочку на кухне. Квартира считалась большой, и потому кроме русской печи на кухне имелись ещё две «голландки» – украшенная изразцами и круглая, обитая железом. Огонь в вечерней печи – одно из самых тёплых воспоминаний ранних лет. И ещё одна сказочная картинка из детства: заваленный снегом дом со сверкающими на солнце сосульками и «пушистыми дымами над всеми тремя трубами»… Сколько раз в детстве я проходил мимо этих домов на улице Воровского в тупике Пушкинской улицы, столько раз мне казалось, что здесь под ветвями берёз скрывается что-то важное, старинное и немного волшебное. Несмотря на то, что в большом здании я бывал – с незапамятных времён в нём размещался рентгенкабинет тубдиспансера.
Сколько раз в детстве я проходил мимо этих домов на улице Воровского в тупике Пушкинской улицы, столько раз мне казалось, что здесь под ветвями берёз скрывается что-то важное, старинное и немного волшебное. Несмотря на то, что в большом здании я бывал – с незапамятных времён в нём размещался рентгенкабинет тубдиспансера.  31 августа академику Российской академии художеств Сергею Борисовичу Краснову исполнилось бы 72 года. Но в ночь с 15 на 16 июня его сердце остановилось, и я пишу эти строки накануне его сороковин. Впрочем, мое сознание пока еще всерьез не воспринимает его уход, не отпускает мысль, что это лишь очередной вызов мастера обывательскому миру, его неукротимое желание встряхивать и побуждать к размышлению о бесконечном космосе и поиску себя внутри него. В эту бесконечность Краснов и шагнул. Улетел на своем фантастически заманчивом острове - одной из самых моих любимых картин…
31 августа академику Российской академии художеств Сергею Борисовичу Краснову исполнилось бы 72 года. Но в ночь с 15 на 16 июня его сердце остановилось, и я пишу эти строки накануне его сороковин. Впрочем, мое сознание пока еще всерьез не воспринимает его уход, не отпускает мысль, что это лишь очередной вызов мастера обывательскому миру, его неукротимое желание встряхивать и побуждать к размышлению о бесконечном космосе и поиску себя внутри него. В эту бесконечность Краснов и шагнул. Улетел на своем фантастически заманчивом острове - одной из самых моих любимых картин…
 Уфа и уфимцы. Кто они? С особой гордостью и уверенностью рассуждают о родном городе коренные уфимцы, полагая, что имеют на это особое право - по одному факту рождения в этом некогда малоизвестном на просторах Российской империи, а потом и СССР городе. Даже будучи столицей БАССР, Уфа долгие годы оставалась глубокой провинцией: в грандиозных планах советской страны ей отводилась весьма скромная роль по сравнению с другими поволжскими, уральскими, сибирскими городами. На картах СССР есть Казань, Куйбышев, Свердловск, а Уфы нет. Так уж сложилось в новейшей истории.
Уфа и уфимцы. Кто они? С особой гордостью и уверенностью рассуждают о родном городе коренные уфимцы, полагая, что имеют на это особое право - по одному факту рождения в этом некогда малоизвестном на просторах Российской империи, а потом и СССР городе. Даже будучи столицей БАССР, Уфа долгие годы оставалась глубокой провинцией: в грандиозных планах советской страны ей отводилась весьма скромная роль по сравнению с другими поволжскими, уральскими, сибирскими городами. На картах СССР есть Казань, Куйбышев, Свердловск, а Уфы нет. Так уж сложилось в новейшей истории. Вернувшись из Кляшево - родного села Мустая Карима (куда отправилась за мустаевским духом, атмосферой и характерами его аульчан) - взялась писать. «Осень патриарха» - выдало заголовок подсознание, хотя никаких сравнений с известным произведением Габриаэля Гарсиа Маркеса я проводить и не собиралась. Нобелевский лауреат, как известно, поведал миру о страшном тиране, олицетворяющем абсолютную власть. А я в преддверии столетнего юбилея нашего литературного патриарха - народного поэта Башкортостана Мустая Карима, прожившего исключительно на светлой стороне земли, захотела заглянуть в его творчество через вековые обычаи и традиции односельчан, через демские просторы, вдохновлявшие поэта до последних дней. «Наш» патриарх - в первозданном греческом смысле слова по праву стал в современной России отцом башкирской литературы, отражением национальной культуры, талантов самородков, какими богата наша земля…
Вернувшись из Кляшево - родного села Мустая Карима (куда отправилась за мустаевским духом, атмосферой и характерами его аульчан) - взялась писать. «Осень патриарха» - выдало заголовок подсознание, хотя никаких сравнений с известным произведением Габриаэля Гарсиа Маркеса я проводить и не собиралась. Нобелевский лауреат, как известно, поведал миру о страшном тиране, олицетворяющем абсолютную власть. А я в преддверии столетнего юбилея нашего литературного патриарха - народного поэта Башкортостана Мустая Карима, прожившего исключительно на светлой стороне земли, захотела заглянуть в его творчество через вековые обычаи и традиции односельчан, через демские просторы, вдохновлявшие поэта до последних дней. «Наш» патриарх - в первозданном греческом смысле слова по праву стал в современной России отцом башкирской литературы, отражением национальной культуры, талантов самородков, какими богата наша земля… (Окончание)Николай и Алексей
В 1912 г. в петербургском журнале был напечатан портрет А.К. Блохина с таким комментарием: «Популярный в Уфе общественный деятель, отпраздновавший 25-летний юбилей службы в должности директора Городского общественного банка. Юбиляр избран Почётным гражданином г. Уфы».
(Окончание)Николай и Алексей
В 1912 г. в петербургском журнале был напечатан портрет А.К. Блохина с таким комментарием: «Популярный в Уфе общественный деятель, отпраздновавший 25-летний юбилей службы в должности директора Городского общественного банка. Юбиляр избран Почётным гражданином г. Уфы». В самом начале 1968 года в квартире уфимского инженера М.Е. Блохиной появились неожиданные гости. Они стали расспрашивать хозяйку о бабушке, интересоваться какими-то фактами её биографии, просили показать фотографии. Мария Евгеньевна вытащила из шкафа овальный портрет бабушки и дедушки. Молодых и красивых. Вскоре в газете «Советская Башкирия» вышла статья Николая Барсова и Вакиля Хазиева «Вы её не знаете…» Эх, знали бы авторы, что у Марии Евгеньевны оставалось в том шкафу кроме портрета и что так и не решилась показать гостям, они пришли бы к ней ещё не раз и не два.
В самом начале 1968 года в квартире уфимского инженера М.Е. Блохиной появились неожиданные гости. Они стали расспрашивать хозяйку о бабушке, интересоваться какими-то фактами её биографии, просили показать фотографии. Мария Евгеньевна вытащила из шкафа овальный портрет бабушки и дедушки. Молодых и красивых. Вскоре в газете «Советская Башкирия» вышла статья Николая Барсова и Вакиля Хазиева «Вы её не знаете…» Эх, знали бы авторы, что у Марии Евгеньевны оставалось в том шкафу кроме портрета и что так и не решилась показать гостям, они пришли бы к ней ещё не раз и не два. В Год семьи тема крепких супружеских союзов звучит с особой актуальностью. Социологи, психологи, генетики, педагоги и еще сотни специалистов в самых разных областях наук давно пытаются найти эффективный алгоритм, рецепт к созданию счастливых семей, где воспитывались бы здоровые, успешные и помнящие свои родовые корни дети. Но пока секрет или, как теперь говорят, квест не пройден, не разгадан. Зато традиция рассказывать о таких незаурядных уфимцах вполне себя оправдывает. И встреча с четой Клоповых, отметивших 55-летие своего счастливого союза, а теперь еще и подошедших к 80-летию главы семейства, - одна из страниц в летописи Уфы. Сам же юбиляр - известная личность в спортивном сообществе Башкортостана и ее столицы. Знакомясь с его родословной, понимаешь, что ничего случайного в нашей жизни не бывает, настоящий мужской характер формирует прежде всего семья, а спорт лишь помогает человеку найти свою верную дорогу, предначертанную судьбой.
В Год семьи тема крепких супружеских союзов звучит с особой актуальностью. Социологи, психологи, генетики, педагоги и еще сотни специалистов в самых разных областях наук давно пытаются найти эффективный алгоритм, рецепт к созданию счастливых семей, где воспитывались бы здоровые, успешные и помнящие свои родовые корни дети. Но пока секрет или, как теперь говорят, квест не пройден, не разгадан. Зато традиция рассказывать о таких незаурядных уфимцах вполне себя оправдывает. И встреча с четой Клоповых, отметивших 55-летие своего счастливого союза, а теперь еще и подошедших к 80-летию главы семейства, - одна из страниц в летописи Уфы. Сам же юбиляр - известная личность в спортивном сообществе Башкортостана и ее столицы. Знакомясь с его родословной, понимаешь, что ничего случайного в нашей жизни не бывает, настоящий мужской характер формирует прежде всего семья, а спорт лишь помогает человеку найти свою верную дорогу, предначертанную судьбой. Мы продолжаем цикл статей, посвященных известному краеведу, историку, археологу Петру Федоровичу Ищерикову. В этом году исполнилось 125 лет со дня его рождения. Все, кому довелось лично быть знакомым с ученым, отмечали его невероятную эрудицию и работоспособность.
Мы продолжаем цикл статей, посвященных известному краеведу, историку, археологу Петру Федоровичу Ищерикову. В этом году исполнилось 125 лет со дня его рождения. Все, кому довелось лично быть знакомым с ученым, отмечали его невероятную эрудицию и работоспособность.
 Краткая история лечебных учреждений Уфы
К 80-летию Госпиталя ветеранов войн (1-й Уфимской городской больницы)
Краткая история лечебных учреждений Уфы
К 80-летию Госпиталя ветеранов войн (1-й Уфимской городской больницы)
 80 лет назад на улице Тукаевской открылась Госпитально-хирургическая больница. Сегодня это здание занимает Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн. К знаменательной дате решено выпустить книгу, страницы которой мы сегодня начинаем публиковать в журнале.
80 лет назад на улице Тукаевской открылась Госпитально-хирургическая больница. Сегодня это здание занимает Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн. К знаменательной дате решено выпустить книгу, страницы которой мы сегодня начинаем публиковать в журнале.
 Где взять деньги, которых почему-то всегда не хватает? На что их в первую очередь потратить, а от чего пока отказаться? Такая дилемма возникает не только в каждой семье, но и в каждом городе. И там, где умеючи распоряжаются средствами, всегда комфорт и порядок.
Где взять деньги, которых почему-то всегда не хватает? На что их в первую очередь потратить, а от чего пока отказаться? Такая дилемма возникает не только в каждой семье, но и в каждом городе. И там, где умеючи распоряжаются средствами, всегда комфорт и порядок.
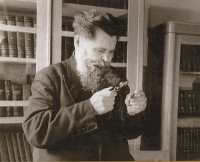 «В ночь на 3 июня 1956 г., около 7 ч. утра подрывали остатки зданий собора и колокольни. Прохожие и пассажиры, едущие в автобусе, говорят о разрушении памятника, как о подлости».
«В ночь на 3 июня 1956 г., около 7 ч. утра подрывали остатки зданий собора и колокольни. Прохожие и пассажиры, едущие в автобусе, говорят о разрушении памятника, как о подлости».
 Так случилось, что в далеком узбекском кишлаке, за тысячи километров от родной земли, встретились два человека. Их судьбы незримыми нитями переплелись в прошлом и крепко связались в будущем. Два талантливых учителя, счастливым случаем заброшенные в глухое место. Он - фронтовик, по годам еще юноша, но уже познавший так много. Она - вчерашняя студентка, с восторгом взирающая на мир широко открытыми глазами. Позже, уже одной семьей, они вернутся на малую родину…
Так случилось, что в далеком узбекском кишлаке, за тысячи километров от родной земли, встретились два человека. Их судьбы незримыми нитями переплелись в прошлом и крепко связались в будущем. Два талантливых учителя, счастливым случаем заброшенные в глухое место. Он - фронтовик, по годам еще юноша, но уже познавший так много. Она - вчерашняя студентка, с восторгом взирающая на мир широко открытыми глазами. Позже, уже одной семьей, они вернутся на малую родину…
 С интеллигентными людьми приятно иметь дело. Как правило, они открыты и доброжелательны, в сердечной беседе завораживают их живой ум и начитанность. Но они не спешат изливать душу, откровенничать, а уж тем более обсуждать посторонних. Однако при всей своей сдержанности истинный интеллигент умеет стойко переносить проявления грубости и бескультурья, не пасует перед ударами судьбы. Благодаря этим качествам они с достоинством прошли через унижение репрессий. Выстояли, чтоб вновь обрести себя и жить, умея быть счастливыми и благодарными…
С интеллигентными людьми приятно иметь дело. Как правило, они открыты и доброжелательны, в сердечной беседе завораживают их живой ум и начитанность. Но они не спешат изливать душу, откровенничать, а уж тем более обсуждать посторонних. Однако при всей своей сдержанности истинный интеллигент умеет стойко переносить проявления грубости и бескультурья, не пасует перед ударами судьбы. Благодаря этим качествам они с достоинством прошли через унижение репрессий. Выстояли, чтоб вновь обрести себя и жить, умея быть счастливыми и благодарными…
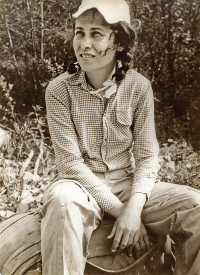 …Мужу отпуск тогда не дали, но Наталья не захотела менять планы и со свойственной ей решительностью отправилась на сплав по Зилиму с дочками – 11-летней Настей и четырехлетней Катей – в компании таких же заядлых сплавщиков-мужчин и их малолетних детишек. Река с первых же минут показала свой нрав: их резиновую лодку затащило под развесистое дерево. «Ложись на дно!» - приказала девчонкам, а уже через полчаса они наперегонки вычерпывали воду из лодки из-за некстати хлынувшего ливня. С трехлетнего возраста Наталья с мужем Михаилом таскали детей по походам и сплавам: объездили всю Башкирию, Алтай, Саяны, Карелию, Соловки. Теперь 35-летняя Анастасия с тем же упорством приучает свою дочь к общению с природой, а вот Катя предпочитает «цивилизованный» отдых у теплого моря, ей хватило родительской романтики…
…Мужу отпуск тогда не дали, но Наталья не захотела менять планы и со свойственной ей решительностью отправилась на сплав по Зилиму с дочками – 11-летней Настей и четырехлетней Катей – в компании таких же заядлых сплавщиков-мужчин и их малолетних детишек. Река с первых же минут показала свой нрав: их резиновую лодку затащило под развесистое дерево. «Ложись на дно!» - приказала девчонкам, а уже через полчаса они наперегонки вычерпывали воду из лодки из-за некстати хлынувшего ливня. С трехлетнего возраста Наталья с мужем Михаилом таскали детей по походам и сплавам: объездили всю Башкирию, Алтай, Саяны, Карелию, Соловки. Теперь 35-летняя Анастасия с тем же упорством приучает свою дочь к общению с природой, а вот Катя предпочитает «цивилизованный» отдых у теплого моря, ей хватило родительской романтики…
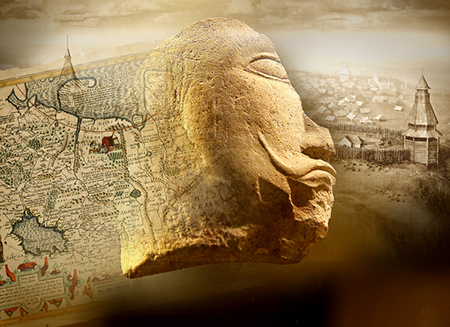 «Есть перед городом Троей вдали на широкой равнине Некий высокий курган, отовсюду легко обходимый». Восхищение античностью разделяли многие образованные люди эпохи Просвещения, но только Генрих Шлиман взялся за раскопки на холме Гиссарлык. И стал первооткрывателем Трои-II, хотя его выводы и были скорректированы последователями.
«Есть перед городом Троей вдали на широкой равнине Некий высокий курган, отовсюду легко обходимый». Восхищение античностью разделяли многие образованные люди эпохи Просвещения, но только Генрих Шлиман взялся за раскопки на холме Гиссарлык. И стал первооткрывателем Трои-II, хотя его выводы и были скорректированы последователями.  Фамилия Гладышевых и сегодня довольно распространена среди уфимцев. Но мало кто знает о дипломатической миссии Д.В. Гладышева в Казахстан и Хиву в 40-е годы XVIII века. И мы решили о ней рассказать. Возможно, кто-то из однофамильцев знает и ведет свою родословную и готов поделиться с нами уникальными историческими фактами – будем за них признательны…
В XVII веке правители Уфы относились к узкому привилегированному слою городовых воевод, которым вменялось в обязанность вести дипломатические переговоры и даже принимать в российское подданство соседние народы и государства. Так, уже в 20-е годы XVII века Уфа становится главным центром русско-калмыцких отношений. Именно в Уфе в 1620 году послы от наиболее влиятельных калмыцких лидеров принесли формальную присягу русскому правительству, признав себя подданными царя.
Фамилия Гладышевых и сегодня довольно распространена среди уфимцев. Но мало кто знает о дипломатической миссии Д.В. Гладышева в Казахстан и Хиву в 40-е годы XVIII века. И мы решили о ней рассказать. Возможно, кто-то из однофамильцев знает и ведет свою родословную и готов поделиться с нами уникальными историческими фактами – будем за них признательны…
В XVII веке правители Уфы относились к узкому привилегированному слою городовых воевод, которым вменялось в обязанность вести дипломатические переговоры и даже принимать в российское подданство соседние народы и государства. Так, уже в 20-е годы XVII века Уфа становится главным центром русско-калмыцких отношений. Именно в Уфе в 1620 году послы от наиболее влиятельных калмыцких лидеров принесли формальную присягу русскому правительству, признав себя подданными царя.
 У каждого города есть день рождения, салюты и фейерверки отсчитывают очередной год его существования: у кого-то он перевалил за тысячу, а кто-то с гордостью говорит: «Мы еще молодые». Уфа отметила 441-летие, но это «по паспорту», на самом деле, как истинная женщина, она свой возраст скрывает. Выяснить, сколько же лет столице республики – задача археологов. Между тем большинство горожан и не подозревает, что под их ногами находится совсем другая Уфа, которая запечатлела многие моменты жизни полуострова от самого его возникновения до наших дней.
У каждого города есть день рождения, салюты и фейерверки отсчитывают очередной год его существования: у кого-то он перевалил за тысячу, а кто-то с гордостью говорит: «Мы еще молодые». Уфа отметила 441-летие, но это «по паспорту», на самом деле, как истинная женщина, она свой возраст скрывает. Выяснить, сколько же лет столице республики – задача археологов. Между тем большинство горожан и не подозревает, что под их ногами находится совсем другая Уфа, которая запечатлела многие моменты жизни полуострова от самого его возникновения до наших дней.
 Морозным днем 20 декабря 2013 года в конце улицы Степана Кувыкина в Уфе в направлении Менделеева бежал очередной олимпийский факелоносец, мужчина средних лет. Он бежал, и ему
не верилось в реальность - ведь все это в городе, где жили его предки, где родились его несчастный дед, братья и сестры деда, где ровно сто лет назад умерла прабабушка Тамара, красивая женщина 38 лет, мать пятерых детей. Ее фотографии хранятся в семейном альбоме. Накануне вместе с краеведом Анатолием Чечухой он побывал
на Сергиевском кладбище, где увидел красивое, черного мрамора старинное надгробие, установленное прадедом.
Морозным днем 20 декабря 2013 года в конце улицы Степана Кувыкина в Уфе в направлении Менделеева бежал очередной олимпийский факелоносец, мужчина средних лет. Он бежал, и ему
не верилось в реальность - ведь все это в городе, где жили его предки, где родились его несчастный дед, братья и сестры деда, где ровно сто лет назад умерла прабабушка Тамара, красивая женщина 38 лет, мать пятерых детей. Ее фотографии хранятся в семейном альбоме. Накануне вместе с краеведом Анатолием Чечухой он побывал
на Сергиевском кладбище, где увидел красивое, черного мрамора старинное надгробие, установленное прадедом.
 Последние два месяца ведущий конструктор научного конструкторско-технологического бюро «Вихрь» Иван Таназлы с особым волнением смотрит все выпуски новостей. Непросто свыкнуться с мыслью: вот сейчас, на твоих глазах, меняется ход истории, а родина предков – Крым - вернулся в состав Российского государства. Но есть в этой радости и примесь горечи: старшее поколение башкирских греков не дожило до этой светлой минуты.
Последние два месяца ведущий конструктор научного конструкторско-технологического бюро «Вихрь» Иван Таназлы с особым волнением смотрит все выпуски новостей. Непросто свыкнуться с мыслью: вот сейчас, на твоих глазах, меняется ход истории, а родина предков – Крым - вернулся в состав Российского государства. Но есть в этой радости и примесь горечи: старшее поколение башкирских греков не дожило до этой светлой минуты. - Мы из тех аристократов, что землю пахали, - любил повторять внуку Иосиф Избицкий. О дворянском происхождении кавалера ордена Ленина долгие годы не знали даже его собственные дети.
- Мы из тех аристократов, что землю пахали, - любил повторять внуку Иосиф Избицкий. О дворянском происхождении кавалера ордена Ленина долгие годы не знали даже его собственные дети. Когда-то каждый уфимец знал, где находится Золотухинская слобода. Не было горожанина, который бы не нашел Усольскую гору. Дома здесь стояли довольно хаотично, заборы тянулись, образуя настоящие лабиринты. Еще жив топоним «Старая Уфа», но теперь все чаще пишется микрорайоны «Южный», «Зеленая роща», «Колгуевский». Медленно, но верно на частные домики наступают многоэтажки с домофонами, огороженными дворами и соседями, которые не знают друг друга. Урбанизация-цивилизация. Мы еще не начали тосковать по снесенному частному сектору, пока в тренде - коммунальные удобства и расширение улиц. Но уже сейчас, когда видишь на полотнах Александра Бурзянцева старую, патриархальную Уфу, сердце невольно сжимается. Кажется, что-то важное все-таки потеряно…
Когда-то каждый уфимец знал, где находится Золотухинская слобода. Не было горожанина, который бы не нашел Усольскую гору. Дома здесь стояли довольно хаотично, заборы тянулись, образуя настоящие лабиринты. Еще жив топоним «Старая Уфа», но теперь все чаще пишется микрорайоны «Южный», «Зеленая роща», «Колгуевский». Медленно, но верно на частные домики наступают многоэтажки с домофонами, огороженными дворами и соседями, которые не знают друг друга. Урбанизация-цивилизация. Мы еще не начали тосковать по снесенному частному сектору, пока в тренде - коммунальные удобства и расширение улиц. Но уже сейчас, когда видишь на полотнах Александра Бурзянцева старую, патриархальную Уфу, сердце невольно сжимается. Кажется, что-то важное все-таки потеряно…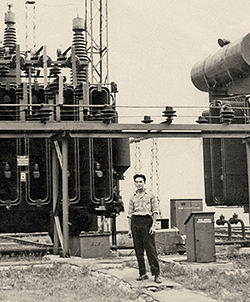 Шахматная партия
Дед Юсуп, заменивший Рафаэлю отца, был легендарной личностью, известной на всю округу. Один из немногих он воевал на Русско-японской войне, вернулся с наградами. Таким бесстрашным, бескомпромиссным оставался Юсуп-атай всю свою долгую жизнь, а прожил он 92 года! Всем девятерым детям постарался дать высшее образование - они стали учителями, медиками, инженерами. И только Хатифа из-за войны после семилетки не смогла учиться дальше. Но ее природный ум брал свое: она бегло читала по-арабски, знала Коран. Война сделала её вдовой в 17 лет. Разведчик Ибрагим Байдавлетов с последнего своего задания вернулся еле живым, но очередного «языка» притащил. Наградой ему за это стала весточка о рождении сына Рафаэля. Но через месяц он умер от ран в госпитале в Баку.
Шахматная партия
Дед Юсуп, заменивший Рафаэлю отца, был легендарной личностью, известной на всю округу. Один из немногих он воевал на Русско-японской войне, вернулся с наградами. Таким бесстрашным, бескомпромиссным оставался Юсуп-атай всю свою долгую жизнь, а прожил он 92 года! Всем девятерым детям постарался дать высшее образование - они стали учителями, медиками, инженерами. И только Хатифа из-за войны после семилетки не смогла учиться дальше. Но ее природный ум брал свое: она бегло читала по-арабски, знала Коран. Война сделала её вдовой в 17 лет. Разведчик Ибрагим Байдавлетов с последнего своего задания вернулся еле живым, но очередного «языка» притащил. Наградой ему за это стала весточка о рождении сына Рафаэля. Но через месяц он умер от ран в госпитале в Баку.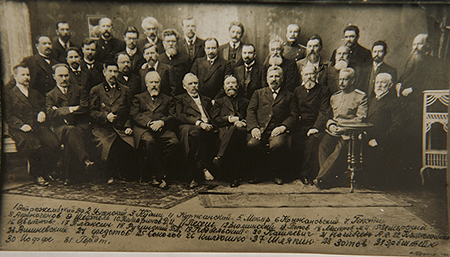 В воскресенье, 30 января 1911 года, в зале Дворянского собрания яблоку негде было упасть. Уфимское общество любителей пения, музыки и драматического искусства представило достопочтенной публике благотворительный спектакль. Средства, поступившие от проданных билетов, были направлены в пользу «недостаточных» учениц акушерско-фельдшерской школы...
В воскресенье, 30 января 1911 года, в зале Дворянского собрания яблоку негде было упасть. Уфимское общество любителей пения, музыки и драматического искусства представило достопочтенной публике благотворительный спектакль. Средства, поступившие от проданных билетов, были направлены в пользу «недостаточных» учениц акушерско-фельдшерской школы...  Управление здравоохранения Уфы отмечает свое 90-летие, что само по себе указывает на неразрывную связь с советскими традициями организации медицинской помощи населению в нашем городе. В то же время вполне очевидный факт: истоки современного здравоохранения берут свое начало ещё в дореволюционной России. 225 лет назад, в 1787 году открылся Приказ общественного призрения, который следил за здоровьем населения и оказывал посильную медицинскую помощь.
Управление здравоохранения Уфы отмечает свое 90-летие, что само по себе указывает на неразрывную связь с советскими традициями организации медицинской помощи населению в нашем городе. В то же время вполне очевидный факт: истоки современного здравоохранения берут свое начало ещё в дореволюционной России. 225 лет назад, в 1787 году открылся Приказ общественного призрения, который следил за здоровьем населения и оказывал посильную медицинскую помощь.  В новой России c новой силой проснулся интерес к генеалогическим корням. Если в советскую эпоху большинство наших соотечественников предпочитало сообщать о своем рабоче-крестьянском происхождении, то теперь многие пытаются докопаться до «голубых кровей», с гордостью при случае отмечая своих пращуров княжеских фамилий.
Моя же героиня с любовью рассказывает о своих работящих, мастеровитых предках, среди которых не замечено ни бояр, ни князей, но зато их мужицкая хватка, удаль да старанье до сих пор угадываются в многочисленных потомках.
В новой России c новой силой проснулся интерес к генеалогическим корням. Если в советскую эпоху большинство наших соотечественников предпочитало сообщать о своем рабоче-крестьянском происхождении, то теперь многие пытаются докопаться до «голубых кровей», с гордостью при случае отмечая своих пращуров княжеских фамилий.
Моя же героиня с любовью рассказывает о своих работящих, мастеровитых предках, среди которых не замечено ни бояр, ни князей, но зато их мужицкая хватка, удаль да старанье до сих пор угадываются в многочисленных потомках.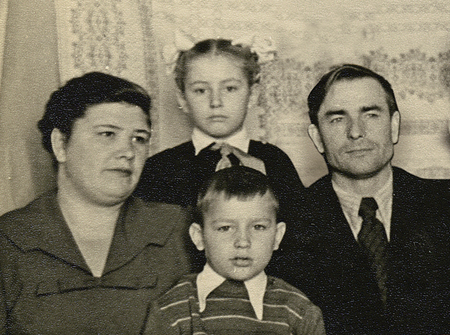 «Белебеевскому купцу Гурову, употребившему до 6000 рублей собственного капитала на построение в Белебее богадельни с 5-ю лавками, из Кабинета Е.И.В. выдана золотая медаль с надписью «За полезное» с изображением улья с пчелами на алой ленте».
1803 год. Из архивных документов о пожаловании наградными медалями жителей малых городов Российской империи.
«Белебеевскому купцу Гурову, употребившему до 6000 рублей собственного капитала на построение в Белебее богадельни с 5-ю лавками, из Кабинета Е.И.В. выдана золотая медаль с надписью «За полезное» с изображением улья с пчелами на алой ленте».
1803 год. Из архивных документов о пожаловании наградными медалями жителей малых городов Российской империи.  Окончание. Начало в № 1.
Природа щедро одарила Алексея. Вместе с сестренкой Ольгой, певшей в церковном хоре в Сергиевском храме, он часами мог слушать купленный отцом патефон с комплектом пластинок. Любой инструмент, к которому прикасались его изящные руки, с ходу выдавал слаженную мелодию, словно юноша уже давно тренировал эти клавиши, а не дотрагивался до них впервые. Любое дело, за которое он с легкостью брался, выходило ладно. Сызмальства крутясь возле стряпухи, выпрашивал кусочки теста для своих смешных изваяний, напоминающих то соседских девчонок, то бабок на завалинке. Был у отца купец-приятель, державший мастерскую, где строгали не только лавки, столы, шкафы, но и гробы. Поначалу Алеша обходил стороной гробовщиков, как он про себя окрестил мастеров столярки, но как-то, выполняя поручение отца, задержался возле краснодеревщика, мастерившего буфет с причудливыми завитушками. Попробовал сам податливое дерево - вышли веселые симпатичные фигурки, отдалённо напоминающие кузнецовские фарфоровые статуэтки, коллекцию которых собирали в семье.
Окончание. Начало в № 1.
Природа щедро одарила Алексея. Вместе с сестренкой Ольгой, певшей в церковном хоре в Сергиевском храме, он часами мог слушать купленный отцом патефон с комплектом пластинок. Любой инструмент, к которому прикасались его изящные руки, с ходу выдавал слаженную мелодию, словно юноша уже давно тренировал эти клавиши, а не дотрагивался до них впервые. Любое дело, за которое он с легкостью брался, выходило ладно. Сызмальства крутясь возле стряпухи, выпрашивал кусочки теста для своих смешных изваяний, напоминающих то соседских девчонок, то бабок на завалинке. Был у отца купец-приятель, державший мастерскую, где строгали не только лавки, столы, шкафы, но и гробы. Поначалу Алеша обходил стороной гробовщиков, как он про себя окрестил мастеров столярки, но как-то, выполняя поручение отца, задержался возле краснодеревщика, мастерившего буфет с причудливыми завитушками. Попробовал сам податливое дерево - вышли веселые симпатичные фигурки, отдалённо напоминающие кузнецовские фарфоровые статуэтки, коллекцию которых собирали в семье.  Иногда меня оставляли у дяди Леши - художника. Он прихрамывал после военного ранения, поэтому прогуливались мы с ним не спеша. Еще у него было больное сердце - обширный инфаркт, в квартире пахло лекарствами, а любимец семейства - вальяжный серый кот обожал валерьянку. У их дома частенько стояла «скорая» и тогда меня не водили к Вавиловым. Но через какое-то время дядя Леша появлялся на улице, и я не упускала случая поболтать с другом. Летом он сидел в своем зеленом дворике за мольбертом, а я крутилась рядом и помалкивала ровно столько, на сколько у меня хватало терпения. Особенно мне нравилось гулять с дядей Лешей зимой: он рисовал на сугробах своей кожаной перчаткой забавных зверюшек. Я приставала со всякими глупостями, а он отвечал мне, как взрослой.
Я подросла и пошла в школу, у соседей меня оставляли все реже, и беседы с Алексеем Николаевичем сошли на нет. Но однажды в зимние каникулы с подружкой Аллой мы решили прыгать в сугроб с крыш. Испробовали сарай - понравилось, азарт разгорелся, и мы решили переметнуться на высоченную крышу дома, под которой и сугроба-то не было. Но тут нас застукал насмерть перепугавшийся дядя Леша. На тот момент храбрость покинула и нас. Мы сидели на сверкающей в лучах январского солнца крыше, а весь мягкий пушистый снег давно съехал без нас, и траектория предполагаемого пилотажа не предвещала ничего веселого. «Сидите, не двигайтесь!», - приказал нам сосед. И, вернувшись с длинным шестом, страховал наше возвращение к лестнице. А вечером дяде Леше опять вызывали «скорую»…
Иногда меня оставляли у дяди Леши - художника. Он прихрамывал после военного ранения, поэтому прогуливались мы с ним не спеша. Еще у него было больное сердце - обширный инфаркт, в квартире пахло лекарствами, а любимец семейства - вальяжный серый кот обожал валерьянку. У их дома частенько стояла «скорая» и тогда меня не водили к Вавиловым. Но через какое-то время дядя Леша появлялся на улице, и я не упускала случая поболтать с другом. Летом он сидел в своем зеленом дворике за мольбертом, а я крутилась рядом и помалкивала ровно столько, на сколько у меня хватало терпения. Особенно мне нравилось гулять с дядей Лешей зимой: он рисовал на сугробах своей кожаной перчаткой забавных зверюшек. Я приставала со всякими глупостями, а он отвечал мне, как взрослой.
Я подросла и пошла в школу, у соседей меня оставляли все реже, и беседы с Алексеем Николаевичем сошли на нет. Но однажды в зимние каникулы с подружкой Аллой мы решили прыгать в сугроб с крыш. Испробовали сарай - понравилось, азарт разгорелся, и мы решили переметнуться на высоченную крышу дома, под которой и сугроба-то не было. Но тут нас застукал насмерть перепугавшийся дядя Леша. На тот момент храбрость покинула и нас. Мы сидели на сверкающей в лучах январского солнца крыше, а весь мягкий пушистый снег давно съехал без нас, и траектория предполагаемого пилотажа не предвещала ничего веселого. «Сидите, не двигайтесь!», - приказал нам сосед. И, вернувшись с длинным шестом, страховал наше возвращение к лестнице. А вечером дяде Леше опять вызывали «скорую»… Моя первая учительница запрещала нам пользоваться ластиком. В новеньком симпатичном пенале ему отводилось почетное место. Там он и жил - для порядка и красоты. И когда спустя годы я прочла у Блока: «Сотри случайные черты - и ты увидишь: мир прекрасен», с улыбкой вспомнила свою так и неиспользованную резинку из пенала…
Вот и моя героиня не хотела бы ничего стереть из прожитых лет, не вычеркнуть ни один день. А мир для нее прекрасен, благодаря избранной профессии.
Она и сегодня - учительница. Ее выдают проницательные глаза и спокойная, уверенная, не оставляющая повода для сомнений интонация. И в свои 85 Татьяна Филипповна созванивается с бывшими коллегами и мыслями переносится то в учительскую, то к классной доске. Она уверена, что профессия педагога - самая лучшая из того, что известно человечеству.
Моя первая учительница запрещала нам пользоваться ластиком. В новеньком симпатичном пенале ему отводилось почетное место. Там он и жил - для порядка и красоты. И когда спустя годы я прочла у Блока: «Сотри случайные черты - и ты увидишь: мир прекрасен», с улыбкой вспомнила свою так и неиспользованную резинку из пенала…
Вот и моя героиня не хотела бы ничего стереть из прожитых лет, не вычеркнуть ни один день. А мир для нее прекрасен, благодаря избранной профессии.
Она и сегодня - учительница. Ее выдают проницательные глаза и спокойная, уверенная, не оставляющая повода для сомнений интонация. И в свои 85 Татьяна Филипповна созванивается с бывшими коллегами и мыслями переносится то в учительскую, то к классной доске. Она уверена, что профессия педагога - самая лучшая из того, что известно человечеству.
 Павлу и Мишке завидовал весь двор - только у их отца был «Москвич-412». И только у них был такой отец, который все вечера и выходные посвящал любимым пацанам, любимому автомобилю и рыбалке. А еще он абсолютно все умел, и по любому житейскому вопросу соседи шли к Георгичу - приварить ли какую-то поломанную штуковину, просверлить ли деталь, стачать ли дефицитную запчасть - все он мог. «Золотые руки у мужика», - завидовала округа его супруге Татьяне Филипповне, день и ночь пропадавшей к школе, где трудилась завучем…
Павлу и Мишке завидовал весь двор - только у их отца был «Москвич-412». И только у них был такой отец, который все вечера и выходные посвящал любимым пацанам, любимому автомобилю и рыбалке. А еще он абсолютно все умел, и по любому житейскому вопросу соседи шли к Георгичу - приварить ли какую-то поломанную штуковину, просверлить ли деталь, стачать ли дефицитную запчасть - все он мог. «Золотые руки у мужика», - завидовала округа его супруге Татьяне Филипповне, день и ночь пропадавшей к школе, где трудилась завучем…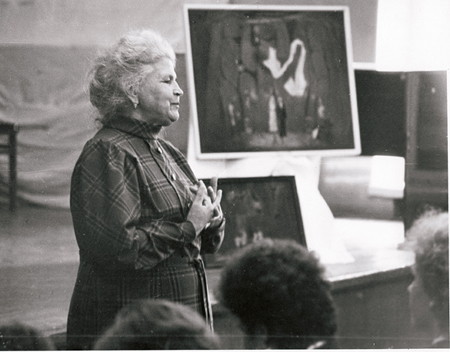 …Услышав от соседских мальчишек о начале приема в школу, я отправилась туда самостоятельно. В кабинете директора собрались. Дошла моя очередь. Меня сразу узнали - Сафа кызы пришла. А сколько же тебе лет, спрашивают. Мне было всего 6. Но я не растерялась и сказала, что очень хочу учиться и от других не отстану. Беседа продолжилась. Говорили, естественно, на родном языке. Атан-инэн тигезмэ? - спрашивают. Я поняла эту фразу буквально: мол, одного ли роста твои мама и папа. Мне тогда было невдомек, что спрашивают, полная ли ваша семья. Но я абсолютно уверенно заявила: нет, дескать, родители не равны, папа значительно выше мамы. Учителя искренне расхохотались, а я расплакалась и выбежала из кабинета…
…Услышав от соседских мальчишек о начале приема в школу, я отправилась туда самостоятельно. В кабинете директора собрались. Дошла моя очередь. Меня сразу узнали - Сафа кызы пришла. А сколько же тебе лет, спрашивают. Мне было всего 6. Но я не растерялась и сказала, что очень хочу учиться и от других не отстану. Беседа продолжилась. Говорили, естественно, на родном языке. Атан-инэн тигезмэ? - спрашивают. Я поняла эту фразу буквально: мол, одного ли роста твои мама и папа. Мне тогда было невдомек, что спрашивают, полная ли ваша семья. Но я абсолютно уверенно заявила: нет, дескать, родители не равны, папа значительно выше мамы. Учителя искренне расхохотались, а я расплакалась и выбежала из кабинета… Возвращение
Идут по заснеженной поселковой улице трое: мать, сын и внук - Степановы. Впереди виднеется церковь. Дойдя до перекрестка, мать говорит: «Ну вот, сынок, это мой храм, а тебе - туда». И направляется в сторону церкви. Сын с внуком сворачивают к мечети. Дома она молится у иконы, а он стелет коврик - готовится к намазу. Разные религии не делают их врагами, не вносят раздора в семью.
Возвращение
Идут по заснеженной поселковой улице трое: мать, сын и внук - Степановы. Впереди виднеется церковь. Дойдя до перекрестка, мать говорит: «Ну вот, сынок, это мой храм, а тебе - туда». И направляется в сторону церкви. Сын с внуком сворачивают к мечети. Дома она молится у иконы, а он стелет коврик - готовится к намазу. Разные религии не делают их врагами, не вносят раздора в семью.
 Татарская слобода
Расставание вышло грустным. Хотя Венера и держалась бодро, даже нарочито весело: «Давай договоримся так. Если тебе кто-то понравится - женись. А если я вдруг встречу суженого - ты уж не обижайся…». Сагит тоже изображал спокойствие. Молча кивал, мысленно негодуя: вот ведь что творит с ним эта городская барышня! Уж и не знаешь, как ей возразить.
Татарская слобода
Расставание вышло грустным. Хотя Венера и держалась бодро, даже нарочито весело: «Давай договоримся так. Если тебе кто-то понравится - женись. А если я вдруг встречу суженого - ты уж не обижайся…». Сагит тоже изображал спокойствие. Молча кивал, мысленно негодуя: вот ведь что творит с ним эта городская барышня! Уж и не знаешь, как ей возразить.
 Окончание. Начало в № 4
Дождь и ветер российского футбола
Один из биографов Стрельцова писатель Александр Нилин сравнивал футболиста с дождем и ветром. «Природа дала ему все необходимое для таранного форварда - очень мощного, с необычайно большими функциональными возможностями. Но вот откуда у него уникальное видение поля и тонкое понимание игры? Как удивительно комбинационно он мыслил, - рассуждал Нилин в одном из интервью. - У Эдуарда был интеллект специалиста, очень погруженного в футбол. Он видел в нем так много, как никто. Стрельцов - единственный человек в мире, который после семилетнего перерыва вернулся в большой футбол, в котором за эти годы сменились две тактические схемы, и заиграл на прежнем уровне. Он как будто ничего и не заметил. Все ходы и мысли Стрельцова опровергали многие канонические вещи».
Окончание. Начало в № 4
Дождь и ветер российского футбола
Один из биографов Стрельцова писатель Александр Нилин сравнивал футболиста с дождем и ветром. «Природа дала ему все необходимое для таранного форварда - очень мощного, с необычайно большими функциональными возможностями. Но вот откуда у него уникальное видение поля и тонкое понимание игры? Как удивительно комбинационно он мыслил, - рассуждал Нилин в одном из интервью. - У Эдуарда был интеллект специалиста, очень погруженного в футбол. Он видел в нем так много, как никто. Стрельцов - единственный человек в мире, который после семилетнего перерыва вернулся в большой футбол, в котором за эти годы сменились две тактические схемы, и заиграл на прежнем уровне. Он как будто ничего и не заметил. Все ходы и мысли Стрельцова опровергали многие канонические вещи».
 Яшка с Уральской
Всю жизнь, куда бы ни приезжал - по собкоровским делам, по редакторским, в отпуск или просто так, - он действует по одной и той же схеме. Первым делом отправляется в местный музей (надо же иметь представление об истории населенного пункта), затем идет на базар (цены, уровень жизни, человеческие характеры), а потом на кладбище, где достаточно взглянуть на могилы, в каком они пребывают состоянии, и понять, насколько культурен здешний народ.
Яшка с Уральской
Всю жизнь, куда бы ни приезжал - по собкоровским делам, по редакторским, в отпуск или просто так, - он действует по одной и той же схеме. Первым делом отправляется в местный музей (надо же иметь представление об истории населенного пункта), затем идет на базар (цены, уровень жизни, человеческие характеры), а потом на кладбище, где достаточно взглянуть на могилы, в каком они пребывают состоянии, и понять, насколько культурен здешний народ.
 «Здравствуйте, вас приветствует динозавр! Все ли в порядке, как настроение?», - окуная стоящих в приемной посетителей в море своего обаяния и заполняя пространство какой-то магической силой, явилась предо мной эта решительная, красивая дама. «Кто это?», - шёпотом спросила я. «Вы что, не знаете?! Это же Нинель Даутовна Юлтыева», - привели меня в чувство девочки-хозяйки приемной министра культуры Татарстана. И я тут вспомнила, как час назад сама министр сообщила мне: «Скоро сюда подъедет женщина, которая с возрастом становится все более женственной и очаровательной и на которую так хочется походить. Мы готовимся провести ее юбилейный вечер
23 марта, и необходимо обсудить кой-какие моменты»…
Так состоялось мое, увы, мимолетное знакомство с этой женщиной-легендой. Мы проговорили всего лишь час (я спешила в Уфу), но расстались как родные. И вот опять у меня цейтнот, пишу впопыхах, чтобы успеть в мартовский номер журнала - к ее дате. Звоню юбилярше на домашний телефон в Казани уточнить некоторые детали. Слышу тот же молодой и бодрый голос человека, который даже в своем взрослом возрасте готов встрепенуться и откликнуться в любую минуту. Что значит врожденная интеллигентность - улыбаюсь про себя, памятуя, как перед этим тщетно пыталась дозвониться до одного чиновника. Какие все-таки разные живут на свете люди…
«Здравствуйте, вас приветствует динозавр! Все ли в порядке, как настроение?», - окуная стоящих в приемной посетителей в море своего обаяния и заполняя пространство какой-то магической силой, явилась предо мной эта решительная, красивая дама. «Кто это?», - шёпотом спросила я. «Вы что, не знаете?! Это же Нинель Даутовна Юлтыева», - привели меня в чувство девочки-хозяйки приемной министра культуры Татарстана. И я тут вспомнила, как час назад сама министр сообщила мне: «Скоро сюда подъедет женщина, которая с возрастом становится все более женственной и очаровательной и на которую так хочется походить. Мы готовимся провести ее юбилейный вечер
23 марта, и необходимо обсудить кой-какие моменты»…
Так состоялось мое, увы, мимолетное знакомство с этой женщиной-легендой. Мы проговорили всего лишь час (я спешила в Уфу), но расстались как родные. И вот опять у меня цейтнот, пишу впопыхах, чтобы успеть в мартовский номер журнала - к ее дате. Звоню юбилярше на домашний телефон в Казани уточнить некоторые детали. Слышу тот же молодой и бодрый голос человека, который даже в своем взрослом возрасте готов встрепенуться и откликнуться в любую минуту. Что значит врожденная интеллигентность - улыбаюсь про себя, памятуя, как перед этим тщетно пыталась дозвониться до одного чиновника. Какие все-таки разные живут на свете люди…
 Странная фамилия
Этим летом одна уфимская приятельница, вернувшись от родственников из Америки, едва переступив порог дома, набрала номер моего телефона и взволнованным голосом сообщила: «Сенсация! У Ленина был брат-близнец, как две капли воды похожий на него, Сергей Ильич Ульянов. Он жил в Башкирии, в Уфе. Я привезла распечатки фотографий, их скачал из Интернета племянник. Говорят, это рассекреченные архивы какой-то зарубежной разведки. Вы ничего не слышали об этом? Неужели правда?»
Странная фамилия
Этим летом одна уфимская приятельница, вернувшись от родственников из Америки, едва переступив порог дома, набрала номер моего телефона и взволнованным голосом сообщила: «Сенсация! У Ленина был брат-близнец, как две капли воды похожий на него, Сергей Ильич Ульянов. Он жил в Башкирии, в Уфе. Я привезла распечатки фотографий, их скачал из Интернета племянник. Говорят, это рассекреченные архивы какой-то зарубежной разведки. Вы ничего не слышали об этом? Неужели правда?» Оказывается, известный всему музыкальному миру наш земляк, ведущий солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков назван в честь своего прадеда по материнской линии Ильдархана. Наверное, тот хорошо пел, иначе вряд ли бы у сына его Нагимзяна оказался по-настоящему оперный голос, который унаследовала - в женском варианте - дочь Нагимзяна красавица Таскиря. Своего деда она видела только на старых фотографиях, потому что родилась через год после его кончины. Однако от своих родителей знала, что происходил он из бедной крестьянской семьи, а потому женился сначала ради богатства, но потом увез эту жену в деревню и до конца дней связал свою жизнь с Рахимой Батыргареевной.
Оказывается, известный всему музыкальному миру наш земляк, ведущий солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков назван в честь своего прадеда по материнской линии Ильдархана. Наверное, тот хорошо пел, иначе вряд ли бы у сына его Нагимзяна оказался по-настоящему оперный голос, который унаследовала - в женском варианте - дочь Нагимзяна красавица Таскиря. Своего деда она видела только на старых фотографиях, потому что родилась через год после его кончины. Однако от своих родителей знала, что происходил он из бедной крестьянской семьи, а потому женился сначала ради богатства, но потом увез эту жену в деревню и до конца дней связал свою жизнь с Рахимой Батыргареевной. Великое десятилетие
Направляясь в центр города от дедушкиного дома близ Витаминки, я всегда намеренно делала крюк - так хотелось лишний раз пройтись по прелестно изломанной старинной улице Дорофеева. Все здесь грело душу - и вид резных темно-серых столетних домов, окунувшихся в сочную зелень садов, и уютные лужайки в ромашках, одуванчиках и цикории, и первозданная тишина, лишь изредка прерываемая чьей-то неумелой ученической игрой на фортепиано, слышной из распахнутого окна за белой кружевной занавеской.
До революции часть улочки была Георгиевским переулком, который обрывался на резком повороте встречной улицы Церковной (теперешней Худайбердина).
Великое десятилетие
Направляясь в центр города от дедушкиного дома близ Витаминки, я всегда намеренно делала крюк - так хотелось лишний раз пройтись по прелестно изломанной старинной улице Дорофеева. Все здесь грело душу - и вид резных темно-серых столетних домов, окунувшихся в сочную зелень садов, и уютные лужайки в ромашках, одуванчиках и цикории, и первозданная тишина, лишь изредка прерываемая чьей-то неумелой ученической игрой на фортепиано, слышной из распахнутого окна за белой кружевной занавеской.
До революции часть улочки была Георгиевским переулком, который обрывался на резком повороте встречной улицы Церковной (теперешней Худайбердина).
 Книжница Анна
В моей жизни она возникла в самом начале перестройки. Весной 1992 года на пороге отдела культуры городской газеты появилась молодая, милая, застенчивая женщина, ведущий специалист президиума Уфимского научного центра Российской Академии наук Анна Павловна Маслова, одна из немногих тогда уфимцев, принявших участие в телевизионном «Поле чудес». Ее дебют в популярном капитал-шоу состоялся осенью 1991-го. Причем та игра была знаменательной - первой для Леонида Якубовича и прощальной для Влада Листьева. Анна поразила тогда нового ведущего знанием античной истории, в частности, Герострата, но ничего не выиграла, кроме годовой подписки на журнал для деловых людей «Moscow Magazine». Да и журнал иссяк через два номера.
Книжница Анна
В моей жизни она возникла в самом начале перестройки. Весной 1992 года на пороге отдела культуры городской газеты появилась молодая, милая, застенчивая женщина, ведущий специалист президиума Уфимского научного центра Российской Академии наук Анна Павловна Маслова, одна из немногих тогда уфимцев, принявших участие в телевизионном «Поле чудес». Ее дебют в популярном капитал-шоу состоялся осенью 1991-го. Причем та игра была знаменательной - первой для Леонида Якубовича и прощальной для Влада Листьева. Анна поразила тогда нового ведущего знанием античной истории, в частности, Герострата, но ничего не выиграла, кроме годовой подписки на журнал для деловых людей «Moscow Magazine». Да и журнал иссяк через два номера. (Окончание)
Чужие среди своих
Когда в нашей стране запрещали праздновать ёлку? Многие уверенно скажут, что в 1920 - 1930-е годы, и что праздника детей лишали большевики. Да, это так, но был ещё и 1914-й, когда на волне антигерманских настроений в связи с начавшейся войной Святейший Синод запретил ставить рождественские ёлки. Несмотря на широкое распространение по России, ёлка всё ещё считалась немецкой традицией, не было забыто и выражение «идти под ёлку», связанное с праздником разве что для выпивох: долгие годы ёлки устанавливались над входом в кабаки. Весной 1915 года Николай II создал особый комитет «по борьбе с германским засильем», тогда же началась ликвидация немецких колоний в Поволжье и на Украине. Парадоксальность ситуации была в том, что в российской армии очень многие офицеры носили немецкие фамилии, среди дворян и чиновников таковых было также немало, сама императрица была немкой. А в семье Вайднер ёлку и без этого не наряжали уже пять лет, 25 декабря для неё было днём траура: в Рождество 1909-го умерла двухлетняя Юля.
(Окончание)
Чужие среди своих
Когда в нашей стране запрещали праздновать ёлку? Многие уверенно скажут, что в 1920 - 1930-е годы, и что праздника детей лишали большевики. Да, это так, но был ещё и 1914-й, когда на волне антигерманских настроений в связи с начавшейся войной Святейший Синод запретил ставить рождественские ёлки. Несмотря на широкое распространение по России, ёлка всё ещё считалась немецкой традицией, не было забыто и выражение «идти под ёлку», связанное с праздником разве что для выпивох: долгие годы ёлки устанавливались над входом в кабаки. Весной 1915 года Николай II создал особый комитет «по борьбе с германским засильем», тогда же началась ликвидация немецких колоний в Поволжье и на Украине. Парадоксальность ситуации была в том, что в российской армии очень многие офицеры носили немецкие фамилии, среди дворян и чиновников таковых было также немало, сама императрица была немкой. А в семье Вайднер ёлку и без этого не наряжали уже пять лет, 25 декабря для неё было днём траура: в Рождество 1909-го умерла двухлетняя Юля. «Старый снимок рассказал», - так примерно начинаются многие статьи о прошлом. Хотя вроде бы о чём может поведать листочек бумаги или картона? Но можно сказать и так: фотография - это окно в прошлое. В него можно заглянуть и увидеть то, о чём никакие историки рассказать не смогут. С картонок в золотом обрамлении на нас смотрят давно ушедшие люди: из своего загадочного мира они и сейчас помогают нам. Пытаются спасти нас от равнодушия и самоуверенности, пытаются вернуть нам память и силу.
«Старый снимок рассказал», - так примерно начинаются многие статьи о прошлом. Хотя вроде бы о чём может поведать листочек бумаги или картона? Но можно сказать и так: фотография - это окно в прошлое. В него можно заглянуть и увидеть то, о чём никакие историки рассказать не смогут. С картонок в золотом обрамлении на нас смотрят давно ушедшие люди: из своего загадочного мира они и сейчас помогают нам. Пытаются спасти нас от равнодушия и самоуверенности, пытаются вернуть нам память и силу. Урмия потерянная, Урмия обретенная
В середине 70-х в СССР в моду вошли высокие женские сапоги на «платформе». Несмотря на внешнюю тяжеловатость, это была необыкновенно удобная, выражаясь по-современному, антистрессовая обувь. Вот и я стала однажды обладательницей чудесных сапожек югославского производства: будучи в Москве, муж выстоял огромную очередь в ГУМе. Прошло какое-то время, и новым сапогам понадобилась чистка. Они были темно-вишневые, и в поисках крема нужного цвета я обошла все уфимские магазины, но тщетно - даже бесцветной ваксы не нашлось. Кто-то посоветовал намазать детским кремом, но блеска на обуви так и не появилось. Тут уж я решила воспользоваться услугами профессионального чистильщика и вспомнила о будочке у гостиницы «Башкирия». Там много лет сидела женщина, которую я с детских лет привыкла видеть на одном и том же месте. Одни называли ее тетей Шурой, другие - Александрой Степановной. Небольшого роста, полноватая, летом под цветастым платком, завязанным по-татарски концами наверх, виднелись аккуратно уложенные короной тугие черные косы, на висках и затылке выбивались симпатичные колечки волос, прямо как у Анны Карениной. В облике было что-то кавказское, легкий акцент выдавал уроженку южных областей. Поражали глаза: блестящие, ярко-зеленые с голубизной. Но самое главное - их внимательный, пытливый взгляд проникал в самое сердце. «Чем это ты их мазала, а? С ума сошла! Не надо слушать дураков. Ты их чуть не испортила!» - возмущалась тетя Шура, надраивая поверхность злосчастных «платформ».
Урмия потерянная, Урмия обретенная
В середине 70-х в СССР в моду вошли высокие женские сапоги на «платформе». Несмотря на внешнюю тяжеловатость, это была необыкновенно удобная, выражаясь по-современному, антистрессовая обувь. Вот и я стала однажды обладательницей чудесных сапожек югославского производства: будучи в Москве, муж выстоял огромную очередь в ГУМе. Прошло какое-то время, и новым сапогам понадобилась чистка. Они были темно-вишневые, и в поисках крема нужного цвета я обошла все уфимские магазины, но тщетно - даже бесцветной ваксы не нашлось. Кто-то посоветовал намазать детским кремом, но блеска на обуви так и не появилось. Тут уж я решила воспользоваться услугами профессионального чистильщика и вспомнила о будочке у гостиницы «Башкирия». Там много лет сидела женщина, которую я с детских лет привыкла видеть на одном и том же месте. Одни называли ее тетей Шурой, другие - Александрой Степановной. Небольшого роста, полноватая, летом под цветастым платком, завязанным по-татарски концами наверх, виднелись аккуратно уложенные короной тугие черные косы, на висках и затылке выбивались симпатичные колечки волос, прямо как у Анны Карениной. В облике было что-то кавказское, легкий акцент выдавал уроженку южных областей. Поражали глаза: блестящие, ярко-зеленые с голубизной. Но самое главное - их внимательный, пытливый взгляд проникал в самое сердце. «Чем это ты их мазала, а? С ума сошла! Не надо слушать дураков. Ты их чуть не испортила!» - возмущалась тетя Шура, надраивая поверхность злосчастных «платформ». Дядя Коля
И снова мир детства в тихом дворике на углу Кирова и Худайбердина, ласковое летнее утро, розовые мальвы вдоль дорожки к калитке по одной стороне, по другой - взбирающиеся по серой бревенчатой стене дома пурпурные «граммофончики» ипомеи, цикорий, нежно голубеющий по склонам оврагов, дурманящий запах репейника. Мы с бабушкой провожаем деда на работу. Он не ахти какой крупный начальник - управляющий трестом «Зеленстрой». За ним приезжает конюх на резвой лошадке, запряженной в черную лакированную коляску. Зимой коня впрягают в сани. Однажды Картатай повез меня на новогодний утренник. Где-то на Кустарной наша повозка опрокинулась в сугроб, конь-огонь, выскочив из упряжи, помчался в сторону Революционной, кучер за ним, а нам пришлось возвращаться домой. Но выпадали на мою долю счастливые дни, когда Картатай брал меня на свою работу. Обедали мы в аэродромовской столовой в «Петушке», бывшем загородном доме купца Костерина. Подавали обычно глазунью в маленькой порционной сковородке, которую ставили на плоскую тарелку. Район сегодняшнего Южного автовокзала тогда еще считался окраиной. По старинке его продолжали называть Восточной слободой. Там и находился «Зеленстрой» («Зеленхоз»), до сих пор не сменивший адреса.
Дядя Коля
И снова мир детства в тихом дворике на углу Кирова и Худайбердина, ласковое летнее утро, розовые мальвы вдоль дорожки к калитке по одной стороне, по другой - взбирающиеся по серой бревенчатой стене дома пурпурные «граммофончики» ипомеи, цикорий, нежно голубеющий по склонам оврагов, дурманящий запах репейника. Мы с бабушкой провожаем деда на работу. Он не ахти какой крупный начальник - управляющий трестом «Зеленстрой». За ним приезжает конюх на резвой лошадке, запряженной в черную лакированную коляску. Зимой коня впрягают в сани. Однажды Картатай повез меня на новогодний утренник. Где-то на Кустарной наша повозка опрокинулась в сугроб, конь-огонь, выскочив из упряжи, помчался в сторону Революционной, кучер за ним, а нам пришлось возвращаться домой. Но выпадали на мою долю счастливые дни, когда Картатай брал меня на свою работу. Обедали мы в аэродромовской столовой в «Петушке», бывшем загородном доме купца Костерина. Подавали обычно глазунью в маленькой порционной сковородке, которую ставили на плоскую тарелку. Район сегодняшнего Южного автовокзала тогда еще считался окраиной. По старинке его продолжали называть Восточной слободой. Там и находился «Зеленстрой» («Зеленхоз»), до сих пор не сменивший адреса. Детство Соколицы
Лена Мацкевич и Веня Цветников до войны работали на Рыбинском авиамоторном: она - мастером, он - инженером. Оба окончили авиационный техникум, были комсомольскими активистами. Он - голубоглазый блондин, сильный, крепкий. она - высокая, веселая, спортивная, с копной кудрявых черных волос. В них чувствовалась новая человеческая порода - строители первого в мире рабоче-крестьянского государства. Это была славная пара, словно сошедшая с живописных полотен Александра Дейнеки. В июле 1940-го у них родилась прехорошенькая девочка, тоже беленькая и голубоглазая - в отца. Назвали ее Лией.
Детство Соколицы
Лена Мацкевич и Веня Цветников до войны работали на Рыбинском авиамоторном: она - мастером, он - инженером. Оба окончили авиационный техникум, были комсомольскими активистами. Он - голубоглазый блондин, сильный, крепкий. она - высокая, веселая, спортивная, с копной кудрявых черных волос. В них чувствовалась новая человеческая порода - строители первого в мире рабоче-крестьянского государства. Это была славная пара, словно сошедшая с живописных полотен Александра Дейнеки. В июле 1940-го у них родилась прехорошенькая девочка, тоже беленькая и голубоглазая - в отца. Назвали ее Лией. Дом под старыми тополями
Наше знакомство с Павлом Петровичем Мерзляковым состоялось в прошлом году. Он прочитал на сайте нашего журнала мой очерк «Лелька, или Подлинная история Каролины Ковальской», где было написано о шанхайских музыкантах-репатриантах, попавших в Уфу в конце 1940-х. Бывший уфимец и давно уже москвич, полковник внутренней службы, до выхода на пенсию работавший замначальника отдела Главного управления пожарной охраны МВД СССР, прислал отклик. Оказалось, с именем музыканта Петра Зелинского были связаны его юношеские годы. «Это был высокий, красивый человек, всегда элегантно одетый, - писал Павел Петрович. - Он прекрасно играл на гавайской гитаре, хорошо владел и другими инструментами. Много ездил по свету. Кажется, был дружен с Александром Вертинским. Ему приписывают авторство песни «Ах, шарабан мой, американка…». И вот занесло его в Уфу. Чаще всего Зелинский играл в ресторане «Башкирия». Приходил к нашим соседям Байшевым слушать зарубежную музыку. Глава семьи Каусар Шакирович, или дядя Костя, был радиоспециалистом высокого класса, и ему ничего не стоило поймать на своем коротковолновике любую радиостанцию. Пожалуй, это было единственное место в городе, где Зелинский отдыхал всей душой. С сыном дяди Кости, Рустамом, я дружил с детства».
Дом под старыми тополями
Наше знакомство с Павлом Петровичем Мерзляковым состоялось в прошлом году. Он прочитал на сайте нашего журнала мой очерк «Лелька, или Подлинная история Каролины Ковальской», где было написано о шанхайских музыкантах-репатриантах, попавших в Уфу в конце 1940-х. Бывший уфимец и давно уже москвич, полковник внутренней службы, до выхода на пенсию работавший замначальника отдела Главного управления пожарной охраны МВД СССР, прислал отклик. Оказалось, с именем музыканта Петра Зелинского были связаны его юношеские годы. «Это был высокий, красивый человек, всегда элегантно одетый, - писал Павел Петрович. - Он прекрасно играл на гавайской гитаре, хорошо владел и другими инструментами. Много ездил по свету. Кажется, был дружен с Александром Вертинским. Ему приписывают авторство песни «Ах, шарабан мой, американка…». И вот занесло его в Уфу. Чаще всего Зелинский играл в ресторане «Башкирия». Приходил к нашим соседям Байшевым слушать зарубежную музыку. Глава семьи Каусар Шакирович, или дядя Костя, был радиоспециалистом высокого класса, и ему ничего не стоило поймать на своем коротковолновике любую радиостанцию. Пожалуй, это было единственное место в городе, где Зелинский отдыхал всей душой. С сыном дяди Кости, Рустамом, я дружил с детства».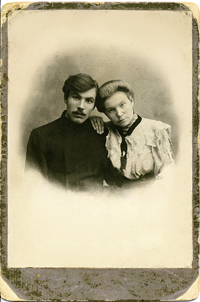 Окончание.
Начало в №1 за 2010 год
Летом 1918-го подпоручик Василий Новичков был мобилизован в Белую Армию. Не избежал этого и Иосиф Баталов, давно обосновавшийся в Уфе. Варвара Гавриловна с грудной Мирой осталась ждать мужа у свекра со свекровью. Новичковы называли себя торговыми людьми. Их большой, добротный дом был виден издалека, красовался прямо в центре Благзавода, на самой Котловке.
Окончание.
Начало в №1 за 2010 год
Летом 1918-го подпоручик Василий Новичков был мобилизован в Белую Армию. Не избежал этого и Иосиф Баталов, давно обосновавшийся в Уфе. Варвара Гавриловна с грудной Мирой осталась ждать мужа у свекра со свекровью. Новичковы называли себя торговыми людьми. Их большой, добротный дом был виден издалека, красовался прямо в центре Благзавода, на самой Котловке. Сдержанность хорошего воспитания
В этом месте, на углу Кирова и Худайбердина, вдоль забора Витаминки, шел великолепный длинный, пологий спуск, прокатиться по которому на санках было одно удовольствие. В начальных классах я жила тут рядом, у дедушки с бабушкой, и чувствовала себя полновластной хозяйкой этой горы. Во всяком случае, наша дворняга Тарзан нисколько в этом не сомневался. По утрам он провожал меня до школы, а после обеда с пронзительным лаем бегал или возле лыжни, проложенной до Пархоменко, или вдогонку за санками. Так он разделял мою страсть к зимним забавам. Сюда приходили, волоча за собой санки, дети с соседних улиц, и я великодушно разрешала им пользоваться данной территорией. Были среди них две девочки - Оля и Наташа, с ними я каталась до задубения шаровар с начесом.
Сдержанность хорошего воспитания
В этом месте, на углу Кирова и Худайбердина, вдоль забора Витаминки, шел великолепный длинный, пологий спуск, прокатиться по которому на санках было одно удовольствие. В начальных классах я жила тут рядом, у дедушки с бабушкой, и чувствовала себя полновластной хозяйкой этой горы. Во всяком случае, наша дворняга Тарзан нисколько в этом не сомневался. По утрам он провожал меня до школы, а после обеда с пронзительным лаем бегал или возле лыжни, проложенной до Пархоменко, или вдогонку за санками. Так он разделял мою страсть к зимним забавам. Сюда приходили, волоча за собой санки, дети с соседних улиц, и я великодушно разрешала им пользоваться данной территорией. Были среди них две девочки - Оля и Наташа, с ними я каталась до задубения шаровар с начесом. Дитя удачи
В начале 1970-х я работала в комсомольской газете «Ленинец». Редакция находилась в тогдашнем Доме печати на Пушкина, 63. А вот «Вечерка», начавшая выходить в 69-м и забравшая себе весь цвет молодежки, занимала целый этаж в гостинице «Уфа» на Карла Маркса, рядом со старым универмагом. Там внизу была замечательная кондитерская с кафетерием, где мы, молодые сотрудницы «Ленинца», частенько лакомились превосходными корзиночками и эклерами, запивая их на удивление вкусным кофе. После этого я обычно поднималась в «Вечерку», чтобы встретиться со «своими». В одно из таких посещений увидела новенькую - красивую сероглазую девочку в большом модном берете, из-под которого торчали забавные хвостики. Нас познакомил, кажется, Саня Касымов. Когда она назвала свое имя: «Тамара Рыбченко», - я вспомнила, что уже слышала о ней. Кто-то с восхищением рассказывал о девушке, окончившей филфак БГУ, больше года добросовестно проработавшей учительницей в дальней татарской деревне и теперь вот принятой в успевшую стать популярной газету. Говорили, что жутко талантливая - и пишет хорошо, и рисует. А «Вечерке» в тот момент понадобился художник со свежими взглядами на городскую жизнь. Что-то зацепило в Тамариных набросках с натуры главного редактора Явдата Бахтияровича Хусаинова, а освоение ею газетной графики, считал он, дело времени.
Дитя удачи
В начале 1970-х я работала в комсомольской газете «Ленинец». Редакция находилась в тогдашнем Доме печати на Пушкина, 63. А вот «Вечерка», начавшая выходить в 69-м и забравшая себе весь цвет молодежки, занимала целый этаж в гостинице «Уфа» на Карла Маркса, рядом со старым универмагом. Там внизу была замечательная кондитерская с кафетерием, где мы, молодые сотрудницы «Ленинца», частенько лакомились превосходными корзиночками и эклерами, запивая их на удивление вкусным кофе. После этого я обычно поднималась в «Вечерку», чтобы встретиться со «своими». В одно из таких посещений увидела новенькую - красивую сероглазую девочку в большом модном берете, из-под которого торчали забавные хвостики. Нас познакомил, кажется, Саня Касымов. Когда она назвала свое имя: «Тамара Рыбченко», - я вспомнила, что уже слышала о ней. Кто-то с восхищением рассказывал о девушке, окончившей филфак БГУ, больше года добросовестно проработавшей учительницей в дальней татарской деревне и теперь вот принятой в успевшую стать популярной газету. Говорили, что жутко талантливая - и пишет хорошо, и рисует. А «Вечерке» в тот момент понадобился художник со свежими взглядами на городскую жизнь. Что-то зацепило в Тамариных набросках с натуры главного редактора Явдата Бахтияровича Хусаинова, а освоение ею газетной графики, считал он, дело времени. Окончание. Начало в №10
В «Уфимских губернских ведомостях» летом 1905 года несколько раз печаталось следующее объявление: «Хлебная контора Луи Дрейфус и Ко переведена на Александровскую улицу (дом Видинеева наследников)». В одном из выпусков дан и номер дома - 15-й.
«Итак, Евгений очутился во Франции, встретился с отцом, - продолжает свой рассказ Эндрю Молло. - Тот отправил его в специальную школу в Швейцарии, после окончания которой отец поступил в Лондонскую Королевскую академию художеств. Там встретил свою будущую жену - англичанку Эллен (Эллу), она тоже стала художником. В 1931-м у них родился Джон, в 1936-м - Борис и в 1940-м - я. Некоторое время Евгений оформлял кинотеатры, в те годы они строились по всей Англии. Перед самой войной он основал компанию, занимавшуюся разработкой новых способов маскировки важных сооружений вроде радарных станций. За короткое время он получил в британской армии звание лейтенанта, хотя за свой не очень чистый английский не раз обращал на себя внимание полиции.
Окончание. Начало в №10
В «Уфимских губернских ведомостях» летом 1905 года несколько раз печаталось следующее объявление: «Хлебная контора Луи Дрейфус и Ко переведена на Александровскую улицу (дом Видинеева наследников)». В одном из выпусков дан и номер дома - 15-й.
«Итак, Евгений очутился во Франции, встретился с отцом, - продолжает свой рассказ Эндрю Молло. - Тот отправил его в специальную школу в Швейцарии, после окончания которой отец поступил в Лондонскую Королевскую академию художеств. Там встретил свою будущую жену - англичанку Эллен (Эллу), она тоже стала художником. В 1931-м у них родился Джон, в 1936-м - Борис и в 1940-м - я. Некоторое время Евгений оформлял кинотеатры, в те годы они строились по всей Англии. Перед самой войной он основал компанию, занимавшуюся разработкой новых способов маскировки важных сооружений вроде радарных станций. За короткое время он получил в британской армии звание лейтенанта, хотя за свой не очень чистый английский не раз обращал на себя внимание полиции. Уфимская хватка
Начнем с того, что именно благодаря публикациям в нашем журнале главная легенда Уфы начала прошлого века о дворянке Поносовой-Молло (урождённой Словохотовой) стала уступать место реальной истории, не менее романтической и захватывающей. Сама же Елена Александровна из мифического ветреного создания, барыньки, праздно существовавшей за счёт богатых мужей (с подачи местного краеведения советских времён), превратилась в интересную, независимую личность и несчастную мать четырёх прекрасных сыновей, потерянных ею в одночасье в годы Гражданской войны.
Уфимская хватка
Начнем с того, что именно благодаря публикациям в нашем журнале главная легенда Уфы начала прошлого века о дворянке Поносовой-Молло (урождённой Словохотовой) стала уступать место реальной истории, не менее романтической и захватывающей. Сама же Елена Александровна из мифического ветреного создания, барыньки, праздно существовавшей за счёт богатых мужей (с подачи местного краеведения советских времён), превратилась в интересную, независимую личность и несчастную мать четырёх прекрасных сыновей, потерянных ею в одночасье в годы Гражданской войны. (Окончание)
Маша
Поезд шёл на целину. Уставшие от песен и дневной беготни молодые люди спали. Лишь одна молоденькая девушка - совсем ещё школьница, напряжённо всматриваясь в ночную темень, с замиранием сердца ждала станции. Ещё утром она была беззаботна и весела - до тех самых пор, пока проводница не обронила случайно, что ночью поезд останавливается лишь в Уфе. «Уфа» - это короткое слово она с раннего детства часто слышала дома, в Москве. В Уфе родился её дедушка. Она вспомнила, как пятилетней малышкой последний раз была у него на Сивцевом Вражке. Тогда он что-то рисовал акварелью. Ещё она вспомнила, что, по словам матери, именно дед попросил дать ей имя Маша: это сочетание - Мария Ивановна - ласкало ему слух, будило воспоминания о прекраснейших годах жизни, о первой его любви. Любви счастливой и трагичной.
(Окончание)
Маша
Поезд шёл на целину. Уставшие от песен и дневной беготни молодые люди спали. Лишь одна молоденькая девушка - совсем ещё школьница, напряжённо всматриваясь в ночную темень, с замиранием сердца ждала станции. Ещё утром она была беззаботна и весела - до тех самых пор, пока проводница не обронила случайно, что ночью поезд останавливается лишь в Уфе. «Уфа» - это короткое слово она с раннего детства часто слышала дома, в Москве. В Уфе родился её дедушка. Она вспомнила, как пятилетней малышкой последний раз была у него на Сивцевом Вражке. Тогда он что-то рисовал акварелью. Ещё она вспомнила, что, по словам матери, именно дед попросил дать ей имя Маша: это сочетание - Мария Ивановна - ласкало ему слух, будило воспоминания о прекраснейших годах жизни, о первой его любви. Любви счастливой и трагичной. «Звание «почётный гражданин» появилось в России в 1832 году. Оно давало его носителям почти те же привилегии, что имели дворяне, за исключением права владеть крепостными. В июне 1969 года в Уфимском горсовете возникла идея возобновить это звание на новой основе», - так начинал я когда-то один из своих очерков.
«Звание «почётный гражданин» появилось в России в 1832 году. Оно давало его носителям почти те же привилегии, что имели дворяне, за исключением права владеть крепостными. В июне 1969 года в Уфимском горсовете возникла идея возобновить это звание на новой основе», - так начинал я когда-то один из своих очерков. Окончание. Начало в №6.
«Боль и гордость моя…»
Барый Калимуллин открыл для себя Уфу в мае 1927-го. Не приехал, не пришел, а приплыл. Как Колумб в Америку. Вместе с Семеном Турышевым и Исхаком Фазыловым, тоже инструкторами канткома ВЛКСМ, проплыл на лодке тысячу верст по Аю и Караидели. На восьмые сутки причалили к высокому уфимскому берегу. Газеты писали, что комсомольские вожаки стали пионерами водного туризма в Башкирии. Тогда ему было двадцать, и, конечно, город его пленил. Каким он его увидел?
Одноэтажным, деревянным. Только в центре встречались двух- и трехэтажные каменные здания. Прямоугольные кварталы, аккуратно нарезанные губернскими землемерами по образцу старых, самых первых, появившихся согласно генплану 1819 года (о нем Барый еще ничего не мог знать). Ровные, длиннющие улицы тянулись со всех сторон, но все непременно выходили к красавице Агидели, к заречным далям. Церкви и мечети не были порушены, каждый храм стоял на возвышенности, и городской ландшафт выглядел ладным и гармоничным. Ничто не мешало любоваться чудными пейзажами окрест Уфимского полуострова.
Окончание. Начало в №6.
«Боль и гордость моя…»
Барый Калимуллин открыл для себя Уфу в мае 1927-го. Не приехал, не пришел, а приплыл. Как Колумб в Америку. Вместе с Семеном Турышевым и Исхаком Фазыловым, тоже инструкторами канткома ВЛКСМ, проплыл на лодке тысячу верст по Аю и Караидели. На восьмые сутки причалили к высокому уфимскому берегу. Газеты писали, что комсомольские вожаки стали пионерами водного туризма в Башкирии. Тогда ему было двадцать, и, конечно, город его пленил. Каким он его увидел?
Одноэтажным, деревянным. Только в центре встречались двух- и трехэтажные каменные здания. Прямоугольные кварталы, аккуратно нарезанные губернскими землемерами по образцу старых, самых первых, появившихся согласно генплану 1819 года (о нем Барый еще ничего не мог знать). Ровные, длиннющие улицы тянулись со всех сторон, но все непременно выходили к красавице Агидели, к заречным далям. Церкви и мечети не были порушены, каждый храм стоял на возвышенности, и городской ландшафт выглядел ладным и гармоничным. Ничто не мешало любоваться чудными пейзажами окрест Уфимского полуострова. Архитектор Барый Калимуллин жил в невероятно сложное время. С одной стороны, на месте деревень и рабочих поселков росли новые города, а с другой - разрушались храмы, и за одно только использование восточного узора в убранстве здания могли обвинить в национализме, причислить к «буржуазным националистам» и даже расстрелять.
В 1930-х годах в архитектуре Башкортостана нарабатывался целый культурный пласт, происходил переход от конструктивизма к неоклассике. Этот период назвали постконструктивизмом. В нашем городе есть дома, построенные в стиле тех лет. Среди них и такие, что были сооружены по проектам Калимуллина. Раньше, на фоне типовых пятиэтажек, расплодившихся после принятия в 1957 году постановления Совмина «О развитии жилищного строительства в СССР», они сохраняли свою индивидуальность. Да и сегодня, в окружении элитных домов, еще держат форму, как бодрые старички, которых природа одарила высоким иммунитетом.
Архитектор Барый Калимуллин жил в невероятно сложное время. С одной стороны, на месте деревень и рабочих поселков росли новые города, а с другой - разрушались храмы, и за одно только использование восточного узора в убранстве здания могли обвинить в национализме, причислить к «буржуазным националистам» и даже расстрелять.
В 1930-х годах в архитектуре Башкортостана нарабатывался целый культурный пласт, происходил переход от конструктивизма к неоклассике. Этот период назвали постконструктивизмом. В нашем городе есть дома, построенные в стиле тех лет. Среди них и такие, что были сооружены по проектам Калимуллина. Раньше, на фоне типовых пятиэтажек, расплодившихся после принятия в 1957 году постановления Совмина «О развитии жилищного строительства в СССР», они сохраняли свою индивидуальность. Да и сегодня, в окружении элитных домов, еще держат форму, как бодрые старички, которых природа одарила высоким иммунитетом.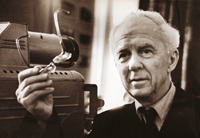 В этом году исполняется 100 лет со дня создания в Уфе Учительского института, являющегося точкой отсчёта истории Башкирского государственного университета, и 90 лет - созданному в годы Гражданской войны Институту народного образования. У истоков последнего стоял Геннадий Гиляриевич Штехер. О судьбе этого незаурядного человека рассказывается в книге его дочери Светланы Геннадиевны Штехер «Хроника нашей семьи», вышедшей недавно в издательстве БГПУ им. М. Акмуллы «Вагант» в серии «Уфимская книга». С фрагментами этой книги, посвящёнными Г.Г. Штехеру, мы и хотим познакомить читателей нашего журнала.
В этом году исполняется 100 лет со дня создания в Уфе Учительского института, являющегося точкой отсчёта истории Башкирского государственного университета, и 90 лет - созданному в годы Гражданской войны Институту народного образования. У истоков последнего стоял Геннадий Гиляриевич Штехер. О судьбе этого незаурядного человека рассказывается в книге его дочери Светланы Геннадиевны Штехер «Хроника нашей семьи», вышедшей недавно в издательстве БГПУ им. М. Акмуллы «Вагант» в серии «Уфимская книга». С фрагментами этой книги, посвящёнными Г.Г. Штехеру, мы и хотим познакомить читателей нашего журнала.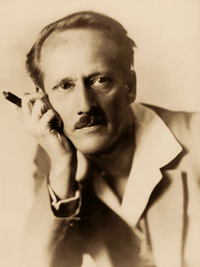 Русский писатель Михаил Андреевич Осоргин (Ильин) (1878-1942) прожил необычайно насыщенную и трагическую жизнь. Проведя половину жизни в эмиграции (в Италии и Франции), он был прочно связан своими корнями с уральской природой, городами Пермью и Уфой, реками Камой, Белой и Дёмой. Вся его прихотливая судьба могла бы послужить ярким и суровым уроком современной отечественной интеллигенции, если бы она когда-нибудь захотела признать свою ответственность за трагический ход русской истории в ХХ веке. Но поскольку, как сказал поэт, мы ленивы и нелюбопытны, то жизнь и творчество писателя Осоргина в нашей стране остаётся уделом внимания исследователей-одиночек. Между тем, в Европе и США его книги до сих пор активно переиздаются не только на русском, но и на многих других языках, и не только читаются, но и вдумчиво изучаются. Ведь в произведениях этого писателя с большой глубиной и талантом, честно и с большим знанием дела рассказывается о том, как и почему могучая и успешно развивающаяся Россия погрузилась сначала в кровавую пучину террора, а потом во мглу революций и гражданской войны.
Русский писатель Михаил Андреевич Осоргин (Ильин) (1878-1942) прожил необычайно насыщенную и трагическую жизнь. Проведя половину жизни в эмиграции (в Италии и Франции), он был прочно связан своими корнями с уральской природой, городами Пермью и Уфой, реками Камой, Белой и Дёмой. Вся его прихотливая судьба могла бы послужить ярким и суровым уроком современной отечественной интеллигенции, если бы она когда-нибудь захотела признать свою ответственность за трагический ход русской истории в ХХ веке. Но поскольку, как сказал поэт, мы ленивы и нелюбопытны, то жизнь и творчество писателя Осоргина в нашей стране остаётся уделом внимания исследователей-одиночек. Между тем, в Европе и США его книги до сих пор активно переиздаются не только на русском, но и на многих других языках, и не только читаются, но и вдумчиво изучаются. Ведь в произведениях этого писателя с большой глубиной и талантом, честно и с большим знанием дела рассказывается о том, как и почему могучая и успешно развивающаяся Россия погрузилась сначала в кровавую пучину террора, а потом во мглу революций и гражданской войны.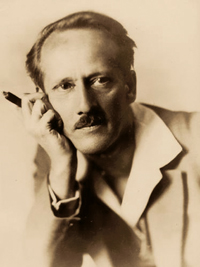 Русский писатель Михаил Андреевич Осоргин (Ильин) (1878-1942) прожил необычайно насыщенную и трагическую жизнь. Проведя половину жизни в эмиграции (в Италии и Франции), он был прочно связан своими корнями с уральской природой, городами Пермью и Уфой, реками Камой, Белой и Дёмой. Вся его прихотливая судьба могла бы послужить ярким и суровым уроком современной отечественной интеллигенции, если бы она когда-нибудь захотела признать свою ответственность за трагический ход русской истории в ХХ веке. Но поскольку, как сказал поэт, мы ленивы и нелюбопытны, то жизнь и творчество писателя Осоргина в нашей стране остаётся уделом внимания исследователей-одиночек. Между тем, в Европе и США его книги до сих пор активно переиздаются не только на русском, но и на многих других языках, и не только читаются, но и вдумчиво изучаются. Ведь в произведениях этого писателя с большой глубиной и талантом, честно и с большим знанием дела рассказывается о том, как и почему могучая и успешно развивающаяся Россия погрузилась сначала в кровавую пучину террора, а потом во мглу революций и гражданской войны.
Русский писатель Михаил Андреевич Осоргин (Ильин) (1878-1942) прожил необычайно насыщенную и трагическую жизнь. Проведя половину жизни в эмиграции (в Италии и Франции), он был прочно связан своими корнями с уральской природой, городами Пермью и Уфой, реками Камой, Белой и Дёмой. Вся его прихотливая судьба могла бы послужить ярким и суровым уроком современной отечественной интеллигенции, если бы она когда-нибудь захотела признать свою ответственность за трагический ход русской истории в ХХ веке. Но поскольку, как сказал поэт, мы ленивы и нелюбопытны, то жизнь и творчество писателя Осоргина в нашей стране остаётся уделом внимания исследователей-одиночек. Между тем, в Европе и США его книги до сих пор активно переиздаются не только на русском, но и на многих других языках, и не только читаются, но и вдумчиво изучаются. Ведь в произведениях этого писателя с большой глубиной и талантом, честно и с большим знанием дела рассказывается о том, как и почему могучая и успешно развивающаяся Россия погрузилась сначала в кровавую пучину террора, а потом во мглу революций и гражданской войны. Дорога жизни
В 1921 году, когда в Поволжье разразился страшный голод, на территории РСФСР была разрешена деятельность «АРА» («American Relief Administration») - Американской администрации помощи, созданной еще в 1919-м для оказания поддержки европейским странам, которые пострадали в Первой мировой войне. Разумеется, американцы не могли упустить возможность повлиять на ход событий по другую сторону океана. Руководил «АРА» республиканец Герберт Гувер - будущий 31-й президент США, правивший во времена Великой Депрессии и поддерживавший монополии в ущерб интересам народа.
Дорога жизни
В 1921 году, когда в Поволжье разразился страшный голод, на территории РСФСР была разрешена деятельность «АРА» («American Relief Administration») - Американской администрации помощи, созданной еще в 1919-м для оказания поддержки европейским странам, которые пострадали в Первой мировой войне. Разумеется, американцы не могли упустить возможность повлиять на ход событий по другую сторону океана. Руководил «АРА» республиканец Герберт Гувер - будущий 31-й президент США, правивший во времена Великой Депрессии и поддерживавший монополии в ущерб интересам народа. Зеленая лампа
«Ты не можешь этого помнить, - в один голос твердили мать с отцом, - тебе было всего полтора года». И все-таки ее младенческая память запечатлела картину прощания: папа стоит у комода, и слеза катится по его щеке. Молодой писатель и поэт Акрам Вали уходил на фронт.
Спустя три года однажды ночью мама разбудила ее и, прижав к себе, сказала: «Доченька, война кончилась! Скоро папа вернется!» Домой Акрам Вали приехал лишь осенью 45-го: в боях за Кенигсберг был тяжело ранен и попал в госпиталь. Командовал штурмовым батальоном, был награжден орденом Красного Знамени и боевыми медалями. Много лет его дочь бережно хранила уникальный документ - отцовский дневник военных лет, маленькую книжечку с обложкой строевого устава пехоты РККА. Акрам Вали начал его в августе 1943-го, будучи старшим лейтенантом Оренбургской войсковой части, и вел до штурма Кенигсберга. В 2002-м Альда Акрамовна опубликовала его в одном из толстых журналов.
В военных записях писателя немало слов, обращенных к дочери. Ее он называет то «весенней птицей», то «веселой моей звездочкой», то «самой дорогой из всех любимых песен». «Тебя одну слушал бы я не уставая. / И для того, чтобы увидеть тебя, / Готов пройти я сквозь / Все огненные версты войны».
Зеленая лампа
«Ты не можешь этого помнить, - в один голос твердили мать с отцом, - тебе было всего полтора года». И все-таки ее младенческая память запечатлела картину прощания: папа стоит у комода, и слеза катится по его щеке. Молодой писатель и поэт Акрам Вали уходил на фронт.
Спустя три года однажды ночью мама разбудила ее и, прижав к себе, сказала: «Доченька, война кончилась! Скоро папа вернется!» Домой Акрам Вали приехал лишь осенью 45-го: в боях за Кенигсберг был тяжело ранен и попал в госпиталь. Командовал штурмовым батальоном, был награжден орденом Красного Знамени и боевыми медалями. Много лет его дочь бережно хранила уникальный документ - отцовский дневник военных лет, маленькую книжечку с обложкой строевого устава пехоты РККА. Акрам Вали начал его в августе 1943-го, будучи старшим лейтенантом Оренбургской войсковой части, и вел до штурма Кенигсберга. В 2002-м Альда Акрамовна опубликовала его в одном из толстых журналов.
В военных записях писателя немало слов, обращенных к дочери. Ее он называет то «весенней птицей», то «веселой моей звездочкой», то «самой дорогой из всех любимых песен». «Тебя одну слушал бы я не уставая. / И для того, чтобы увидеть тебя, / Готов пройти я сквозь / Все огненные версты войны». В Уфе я никогда не был, но слово это знакомо, сколько помню себя. Во время войны мама где-то раздобыла большой лист бумаги, и мы, сидя на полу, с помощью самодельного циркуля начертили два полушария, а контуры материков, государственные границы и города перерисовали из атласа. На этой самодельной карте кроме Москвы, Владивостока, Намангана, Читы и нашего Балашова мама обозначила и свою родину - Уфу.
В Уфе я никогда не был, но слово это знакомо, сколько помню себя. Во время войны мама где-то раздобыла большой лист бумаги, и мы, сидя на полу, с помощью самодельного циркуля начертили два полушария, а контуры материков, государственные границы и города перерисовали из атласа. На этой самодельной карте кроме Москвы, Владивостока, Намангана, Читы и нашего Балашова мама обозначила и свою родину - Уфу.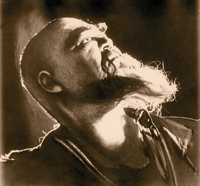 Много лет я жил по соседству с народным артистом Советского Союза. Жил, но не имел об этом ни малейшего понятия. Да и чем меня, тогдашнего мальчишку, мог заинтересовать сурового вида грузный человек в очках и неизменных плаще и шляпе? Но как-то забежали мы после школы к жившему неподалеку однокласснику. А там, у дяди Тагира - гость. Увидев нас, мужчина как-то очень тепло, как мне показалось, даже обрадованно, воскликнул: «О, ребята! Заходите, вы нам не помешаете». Позже я встречал его там ещё не раз. Это и был мой суровый на вид сосед - народный артист СССР Арслан Котлоахметович Мубаряков.
Много лет я жил по соседству с народным артистом Советского Союза. Жил, но не имел об этом ни малейшего понятия. Да и чем меня, тогдашнего мальчишку, мог заинтересовать сурового вида грузный человек в очках и неизменных плаще и шляпе? Но как-то забежали мы после школы к жившему неподалеку однокласснику. А там, у дяди Тагира - гость. Увидев нас, мужчина как-то очень тепло, как мне показалось, даже обрадованно, воскликнул: «О, ребята! Заходите, вы нам не помешаете». Позже я встречал его там ещё не раз. Это и был мой суровый на вид сосед - народный артист СССР Арслан Котлоахметович Мубаряков. Окончание. Начало
в предыдущем номере.
Летом 1958-го Мажитов копал Турбаслинские курганы. Экспедиция была небольшая - поставили всего три палатки. В одной поселились две девочки-старшеклассницы из Уфы, юнарки - так называли членов кружка «Юный археолог» при Дворце пионеров, которым руководил школьный учитель Геральд Николаевич Матюшин, впоследствии ставший видным ученым-специалистом по каменному веку Южного Урала, доктором наук, сотрудником Института археологии АН СССР. С Матюшиным Мажитов был хорошо знаком, однажды по просьбе Геральда Николаевича побывал у него в школе, где рассказывал о своей работе и пообещал девочкам, что возьмет их на раскопки.
Окончание. Начало
в предыдущем номере.
Летом 1958-го Мажитов копал Турбаслинские курганы. Экспедиция была небольшая - поставили всего три палатки. В одной поселились две девочки-старшеклассницы из Уфы, юнарки - так называли членов кружка «Юный археолог» при Дворце пионеров, которым руководил школьный учитель Геральд Николаевич Матюшин, впоследствии ставший видным ученым-специалистом по каменному веку Южного Урала, доктором наук, сотрудником Института археологии АН СССР. С Матюшиным Мажитов был хорошо знаком, однажды по просьбе Геральда Николаевича побывал у него в школе, где рассказывал о своей работе и пообещал девочкам, что возьмет их на раскопки.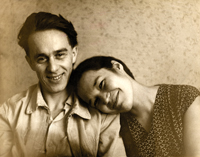 В 1995-м Мажитов вел раскопки в Хайбуллинском районе. Вначале поехал туда по собственной инициативе. Торопился, поскольку газеты писали, что вот-вот начнется строительство Таналыкского водохранилища. По закону все историко-археологические памятники, находящиеся в зоне строительных работ, должны быть предварительно изучены тщательным образом. А проектная документация не была завизирована Министерством культуры. Времени в обрез. К неудовольствию археологов, потребовалась еще одна экспертиза, хотя доподлинно было известно об остатках пяти поселений XV-XIX веков. Но недовольство затем сменилось радостью: в результате дополнительных исследований был обнаружен объект эпохи бронзы, оказавшийся уникальным памятником Аркаимского круга. Усилиями Мажитова, обратившегося в Кабинет Министров, была организована комплексная экспедиция Башгосуниверситета, Пединститута, Института истории, языка и литературы и Отдела народов Урала Уфимского научного центра РАН.
В 1995-м Мажитов вел раскопки в Хайбуллинском районе. Вначале поехал туда по собственной инициативе. Торопился, поскольку газеты писали, что вот-вот начнется строительство Таналыкского водохранилища. По закону все историко-археологические памятники, находящиеся в зоне строительных работ, должны быть предварительно изучены тщательным образом. А проектная документация не была завизирована Министерством культуры. Времени в обрез. К неудовольствию археологов, потребовалась еще одна экспертиза, хотя доподлинно было известно об остатках пяти поселений XV-XIX веков. Но недовольство затем сменилось радостью: в результате дополнительных исследований был обнаружен объект эпохи бронзы, оказавшийся уникальным памятником Аркаимского круга. Усилиями Мажитова, обратившегося в Кабинет Министров, была организована комплексная экспедиция Башгосуниверситета, Пединститута, Института истории, языка и литературы и Отдела народов Урала Уфимского научного центра РАН. Копна золотисто-русых волос, манящий взгляд серо-зеленых глаз, флер таинственности уже в звучании нерусского имени. В середине прошлого века одной из самых привлекательных женщин и законодательниц моды в Уфе была Каролина Ковальская, которую родственники и друзья ласково называли просто Лёлька.
Копна золотисто-русых волос, манящий взгляд серо-зеленых глаз, флер таинственности уже в звучании нерусского имени. В середине прошлого века одной из самых привлекательных женщин и законодательниц моды в Уфе была Каролина Ковальская, которую родственники и друзья ласково называли просто Лёлька. (Окончание, начало в №7)
Пан директор
Когда-то род Избицких принадлежал к дворянскому сословию: в семье хранится документ, подтверждающий сей исторический факт. Были у Избицких земли в Белоруссии, леса, пять деревень - словом, денег хватало на очень даже безбедную жизнь. Но вольная польская кровь оказалась сильнее тяги к благополучию: в 1832 году за участие в польском восстании дед Иосифа Антоновича был переведён в крестьянское сословие. И хотя никто из помещичьего дома его и не думал выгонять, он демонстративно поселился в крестьянской хате - халупе и надел кожух (овчинный тулуп), который уж не снимал до самой смерти.
До внуков от дедовского наследия кроме той самой халупы ничего не дошло. Как вспоминал Иосиф Антонович, в их семье имелась лишь пара сапог - для отца и двух братьев, и пара чёботов - на четырёх сестёр. Хотя дворянство Избицким и вернули в 1861-м, но богатств это не прибавило: из-за бедности Антон Избицкий стремился вывести в люди, дать образование хотя бы старшему Иосифу. После приходской (начальной) школы тот поступил в учительскую семинарию города Гродно. Но проучился чуть больше года: расходы оказались непосильными для отца. Позже Иосиф всё же сдал все экзамены экстерном и десять лет преподавал в школе. Попутно окончил агрономические курсы и вполне заслуженно прослыл большим знатоком сельского хозяйства. Словом, стал очень уважаемым человеком. Потому, когда его арестовали за откровенные призывы к свободе Польши (за политическую неблагонадёжность его даже называли «красным»), белорусские крестьяне вступились за своего учителя и агронома.
(Окончание, начало в №7)
Пан директор
Когда-то род Избицких принадлежал к дворянскому сословию: в семье хранится документ, подтверждающий сей исторический факт. Были у Избицких земли в Белоруссии, леса, пять деревень - словом, денег хватало на очень даже безбедную жизнь. Но вольная польская кровь оказалась сильнее тяги к благополучию: в 1832 году за участие в польском восстании дед Иосифа Антоновича был переведён в крестьянское сословие. И хотя никто из помещичьего дома его и не думал выгонять, он демонстративно поселился в крестьянской хате - халупе и надел кожух (овчинный тулуп), который уж не снимал до самой смерти.
До внуков от дедовского наследия кроме той самой халупы ничего не дошло. Как вспоминал Иосиф Антонович, в их семье имелась лишь пара сапог - для отца и двух братьев, и пара чёботов - на четырёх сестёр. Хотя дворянство Избицким и вернули в 1861-м, но богатств это не прибавило: из-за бедности Антон Избицкий стремился вывести в люди, дать образование хотя бы старшему Иосифу. После приходской (начальной) школы тот поступил в учительскую семинарию города Гродно. Но проучился чуть больше года: расходы оказались непосильными для отца. Позже Иосиф всё же сдал все экзамены экстерном и десять лет преподавал в школе. Попутно окончил агрономические курсы и вполне заслуженно прослыл большим знатоком сельского хозяйства. Словом, стал очень уважаемым человеком. Потому, когда его арестовали за откровенные призывы к свободе Польши (за политическую неблагонадёжность его даже называли «красным»), белорусские крестьяне вступились за своего учителя и агронома. Окончание. Начало в №№ 6, 7 и 8.
Александр Николаевич как «старый специалист» вполне мог разделить участь многих репрессированных геологов. Гассельблат действительно тоже окончил Уфимскую мужскую гимназию, только несколько раньше Заварицкого, а вот в Горный оба поступили в 1902-м. Правда, Гассельблат, как и Серебровский, был отчислен за участие в студенческих волнениях и выслан под надзор полиции в Уфимскую губернию. Позже продолжил образование в Высшей горной школе в Швеции, но диплом получил Горного института.
Окончание. Начало в №№ 6, 7 и 8.
Александр Николаевич как «старый специалист» вполне мог разделить участь многих репрессированных геологов. Гассельблат действительно тоже окончил Уфимскую мужскую гимназию, только несколько раньше Заварицкого, а вот в Горный оба поступили в 1902-м. Правда, Гассельблат, как и Серебровский, был отчислен за участие в студенческих волнениях и выслан под надзор полиции в Уфимскую губернию. Позже продолжил образование в Высшей горной школе в Швеции, но диплом получил Горного института. Продолжение. Начало в №№ 6, 7.
Просидеть за решеткой ей пришлось до тех пор, пока чекистам не удалось установить связь с Петроградом и разыскать наркома продовольствия. Цюрупа, в свое время обласканный семьей "колонизатора", заявил примерно следующее: "Заварицкие много полезного сделали для России!". После таких слов семью оставили в покое. Ирину Ильиничну отпустили. Правда, с условием, что она сдаст Советской власти все ценности. На следующий день та принесла в ЧК свои драгоценности, не испытывая при этом никаких сожалений, - она всю жизнь была равнодушна к украшениям, если не считать пары милых сердцу сережек или нитки жемчуга, подаренных Николаем Александровичем. Крест, врученный настоятелем Ново-Афонского монастыря архимандритом Иларионом, разумеется, и не думала отдавать. Более того, перепрятала в надежное место.
Загадочное письмо, так напугавшее чекистов, сыграло решающую роль в освобождении Заварицких. Так что же это было за послание, и какое отношение имела к нему Ольга Николаевна?
Продолжение. Начало в №№ 6, 7.
Просидеть за решеткой ей пришлось до тех пор, пока чекистам не удалось установить связь с Петроградом и разыскать наркома продовольствия. Цюрупа, в свое время обласканный семьей "колонизатора", заявил примерно следующее: "Заварицкие много полезного сделали для России!". После таких слов семью оставили в покое. Ирину Ильиничну отпустили. Правда, с условием, что она сдаст Советской власти все ценности. На следующий день та принесла в ЧК свои драгоценности, не испытывая при этом никаких сожалений, - она всю жизнь была равнодушна к украшениям, если не считать пары милых сердцу сережек или нитки жемчуга, подаренных Николаем Александровичем. Крест, врученный настоятелем Ново-Афонского монастыря архимандритом Иларионом, разумеется, и не думала отдавать. Более того, перепрятала в надежное место.
Загадочное письмо, так напугавшее чекистов, сыграло решающую роль в освобождении Заварицких. Так что же это было за послание, и какое отношение имела к нему Ольга Николаевна? Продолжение. Начало в №6
Жену с новорожденным сыном Николай Александрович повез в Казань, только не к родным, а в больницу - во избежание всяких осложнений. Крестили Санечку 4 марта тут же - в храме Во Имя Богородицы Неопалимой Купины при Казанской земской больнице. Судя по записи в церковной книге, родственников Заварицких среди восприемников, то есть крестных, не было. Выходит, не признали. Ирину Ильиничну мать и братья не приняли, сын считался незаконнорожденным. Так и уехали обратно в Уфу несолоно хлебавши. "Будем считать, что мы никуда не ездили, а Саня родился в Уфе", - сказала, как отрезала, молодая женщина.
Продолжение. Начало в №6
Жену с новорожденным сыном Николай Александрович повез в Казань, только не к родным, а в больницу - во избежание всяких осложнений. Крестили Санечку 4 марта тут же - в храме Во Имя Богородицы Неопалимой Купины при Казанской земской больнице. Судя по записи в церковной книге, родственников Заварицких среди восприемников, то есть крестных, не было. Выходит, не признали. Ирину Ильиничну мать и братья не приняли, сын считался незаконнорожденным. Так и уехали обратно в Уфу несолоно хлебавши. "Будем считать, что мы никуда не ездили, а Саня родился в Уфе", - сказала, как отрезала, молодая женщина. Я не был в Бирске больше тридцати лет. В воспоминаниях он оставался невысоким, уютным и почему-то необычайно добрым. Город не обманул моих ожиданий: та же милая провинциальная неспешность, те же дороги, на которых почти нет машин. И те же люди - как будто вышедшие из времён моего далёкого детства.
Я не был в Бирске больше тридцати лет. В воспоминаниях он оставался невысоким, уютным и почему-то необычайно добрым. Город не обманул моих ожиданий: та же милая провинциальная неспешность, те же дороги, на которых почти нет машин. И те же люди - как будто вышедшие из времён моего далёкого детства. Лет сорок назад это было. Стояла в магазине "Галантерея" на Ленина очередь за мужскими перчатками. Народ волновался - хватит ли на всех. А тут вдруг заходит представительный мужчина и, не обращая внимания ни на кого, прямо через головы стоящих протягивает продавщице деньги. А та… беспрекословно подаёт ему вожделенный товар. И никто не возразил. Мужчин в очереди, понятно, не было, а для женщин (едва ли не всех без исключения!) этот солидный мужчина являлся чем-то вроде живого титана. Ведь бессловесным покупателем был знаменитый акушер и гинеколог профессор Владимир Третьяков.
Лет сорок назад это было. Стояла в магазине "Галантерея" на Ленина очередь за мужскими перчатками. Народ волновался - хватит ли на всех. А тут вдруг заходит представительный мужчина и, не обращая внимания ни на кого, прямо через головы стоящих протягивает продавщице деньги. А та… беспрекословно подаёт ему вожделенный товар. И никто не возразил. Мужчин в очереди, понятно, не было, а для женщин (едва ли не всех без исключения!) этот солидный мужчина являлся чем-то вроде живого титана. Ведь бессловесным покупателем был знаменитый акушер и гинеколог профессор Владимир Третьяков. Лет тридцать назад в Уфу из Венгрии приезжала группа технических работников для постройки на дороге в аэропорт современной автозаправочной станции. Один вид той АЗС был для меня тогда в диковинку. Но ещё больше удивил неожиданный интерес одного из инженеров к башкирскому языку, что, разумеется, стало головной болью московского переводчика. Житель далёкого Будапешта читал вывески, пытаясь понять смысл, вслушивался в речь. Причина тому, как оказалось, была достаточно простой...
Лет тридцать назад в Уфу из Венгрии приезжала группа технических работников для постройки на дороге в аэропорт современной автозаправочной станции. Один вид той АЗС был для меня тогда в диковинку. Но ещё больше удивил неожиданный интерес одного из инженеров к башкирскому языку, что, разумеется, стало головной болью московского переводчика. Житель далёкого Будапешта читал вывески, пытаясь понять смысл, вслушивался в речь. Причина тому, как оказалось, была достаточно простой...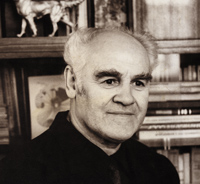 Седьмой ребенок
В феврале 1917 года на улице мела метель. Снегом завалило хату до самой крыши. А в семье Александры Казимировны и Филиппа Лукича Заянчковских ожидали появления младшенького. Сугробы мешали подъехать к дому, и поэтому около роженицы хлопотала только повивальная бабка. Спустя некоторое время после того, как раздался крик ребенка, глава семейства осторожно зашел в комнату, где на кровати рядом с супругой лежало запеленатое живое чудо. "Слава Богу, все уже позади!" - только и пронеслось в сознании счастливого отца. А когда малыша уже можно было взять на руки, Филипп Лукич в присутствии сына Евгения и других домочадцев положил его на большую белую подушку, а сверху - "Хрестоматию по русской литературе" - и вслух произнес: "Чтобы ты рос умным и любил науки". Мальчика крестили, когда ему исполнилось пять лет.
Седьмой ребенок
В феврале 1917 года на улице мела метель. Снегом завалило хату до самой крыши. А в семье Александры Казимировны и Филиппа Лукича Заянчковских ожидали появления младшенького. Сугробы мешали подъехать к дому, и поэтому около роженицы хлопотала только повивальная бабка. Спустя некоторое время после того, как раздался крик ребенка, глава семейства осторожно зашел в комнату, где на кровати рядом с супругой лежало запеленатое живое чудо. "Слава Богу, все уже позади!" - только и пронеслось в сознании счастливого отца. А когда малыша уже можно было взять на руки, Филипп Лукич в присутствии сына Евгения и других домочадцев положил его на большую белую подушку, а сверху - "Хрестоматию по русской литературе" - и вслух произнес: "Чтобы ты рос умным и любил науки". Мальчика крестили, когда ему исполнилось пять лет.  Стоит в Старой Уфе на улице Менделеева большое здание. Недавно его капитально отремонтировали, после повторного открытия появилась на нём и новая вывеска: "Центр образования №19 им. Б.И. Северинова". Много "именных" школ было в истории нашего города - имени Кузнецова, имени Галановой, имени Байковой, имени Горького, "памяти Ленина", но как-то исподволь все эти некогда громкие имена подзабылись и перестали употребляться, иногда и не совсем оправданно. И вдруг школе, которой от роду уж лет семьдесят, присвоено новое имя. А ведь и вправду - не так давно 19-я школа и Северинов были абсолютно неразделимы.
Стоит в Старой Уфе на улице Менделеева большое здание. Недавно его капитально отремонтировали, после повторного открытия появилась на нём и новая вывеска: "Центр образования №19 им. Б.И. Северинова". Много "именных" школ было в истории нашего города - имени Кузнецова, имени Галановой, имени Байковой, имени Горького, "памяти Ленина", но как-то исподволь все эти некогда громкие имена подзабылись и перестали употребляться, иногда и не совсем оправданно. И вдруг школе, которой от роду уж лет семьдесят, присвоено новое имя. А ведь и вправду - не так давно 19-я школа и Северинов были абсолютно неразделимы. Гипотезы - это леса, которые возводят перед зданием и сносят, когда здание готово…
И. Гете
Разговоры о "дикости" тюркских кочевников и "отсталости" восточных славян - хитрая выдумка дипломатов эпохи крестовых походов, уцелевшая до ХХ века как обывательская клевета.
Л. Гумилев
Когда в 1952-м Яков Гельблу приехал в Уфу насовсем, у него не было ощущения, что он попал в совершенно незнакомый город. Лейтенант Гельблу был здесь осенью 1942-го, когда его из действующей армии послали в командировку в восточные районы, в том числе и в Уфу - всего на сутки. Сюда был эвакуирован дорогой ему человек. Он разыскал его в одном из двухэтажных старинных домов на Социалистической, проговорил с ним до рассвета, а серым утром отправился на вокзал. Гельблу слегка заплутал, так как был сильно взволнован этой встречей, бродил по безлюдным улицам, потом наконец вышел на Ленина в районе Дома пионеров и быстро зашагал вниз, к поезду. Человек, с которым он провел бессонную ночь на застекленной веранде, сидя на скрипучем венском стуле, выкуривая папиросу за папиросой, был его старым учителем. Академик Украинской Академии наук, один из крупнейших специалистов по иностранным языкам того времени Михаил Яковлевич Калинович в Уфе возглавлял секцию общественных наук, он сделал многое для того, чтобы в трудных условиях эвакуации, в самый разгар войны, заработали институты экономики, языка и литературы, истории и археологии, народного творчества и культуры. В 1930-х он преподавал общее языкознание в Украинском институте лингвистического образования (УИЛО) в Киеве. В 1932-м 21-летний Яша поступил туда на факультет немецкого языка. Его мечта сбылась. Языки давались ему легко. В селе Ладыжине Каменец-Подольской губернии, где он родился в 1911 году, еще в Российской империи, население состояло из украинцев, русских, поляков и евреев. Все одинаково хорошо говорили на всех четырех языках. Когда-то в Ладыжине была одна из ставок Золотой Орды, поэтому названия населенных пунктов в этой исторической местности сохранили тюркское окончание -ин - Гайсин, Тульчин (родовая вотчина Суворова) и так далее. В 1916-м отец, Иосиф Гельблу, вернулся с военной службы. В 1920-м жена его Рахиль родила Мирру, в 1923-м - Ефима. Позже семья перебралась в Винницу.
Гипотезы - это леса, которые возводят перед зданием и сносят, когда здание готово…
И. Гете
Разговоры о "дикости" тюркских кочевников и "отсталости" восточных славян - хитрая выдумка дипломатов эпохи крестовых походов, уцелевшая до ХХ века как обывательская клевета.
Л. Гумилев
Когда в 1952-м Яков Гельблу приехал в Уфу насовсем, у него не было ощущения, что он попал в совершенно незнакомый город. Лейтенант Гельблу был здесь осенью 1942-го, когда его из действующей армии послали в командировку в восточные районы, в том числе и в Уфу - всего на сутки. Сюда был эвакуирован дорогой ему человек. Он разыскал его в одном из двухэтажных старинных домов на Социалистической, проговорил с ним до рассвета, а серым утром отправился на вокзал. Гельблу слегка заплутал, так как был сильно взволнован этой встречей, бродил по безлюдным улицам, потом наконец вышел на Ленина в районе Дома пионеров и быстро зашагал вниз, к поезду. Человек, с которым он провел бессонную ночь на застекленной веранде, сидя на скрипучем венском стуле, выкуривая папиросу за папиросой, был его старым учителем. Академик Украинской Академии наук, один из крупнейших специалистов по иностранным языкам того времени Михаил Яковлевич Калинович в Уфе возглавлял секцию общественных наук, он сделал многое для того, чтобы в трудных условиях эвакуации, в самый разгар войны, заработали институты экономики, языка и литературы, истории и археологии, народного творчества и культуры. В 1930-х он преподавал общее языкознание в Украинском институте лингвистического образования (УИЛО) в Киеве. В 1932-м 21-летний Яша поступил туда на факультет немецкого языка. Его мечта сбылась. Языки давались ему легко. В селе Ладыжине Каменец-Подольской губернии, где он родился в 1911 году, еще в Российской империи, население состояло из украинцев, русских, поляков и евреев. Все одинаково хорошо говорили на всех четырех языках. Когда-то в Ладыжине была одна из ставок Золотой Орды, поэтому названия населенных пунктов в этой исторической местности сохранили тюркское окончание -ин - Гайсин, Тульчин (родовая вотчина Суворова) и так далее. В 1916-м отец, Иосиф Гельблу, вернулся с военной службы. В 1920-м жена его Рахиль родила Мирру, в 1923-м - Ефима. Позже семья перебралась в Винницу. Первый апрель
Окна квартиры, где живёт Сергей Владимирович Агте, выходят на Белую. Почти сорок лет он, не выходя из дома, может наблюдать ледоход на реке и половодье. А впервые разливом на Белой он любовался ещё десятилетним мальчишкой…
Сергей Агте родился в Иркутске в 1922 году. Когда ему было 5 лет, он заболел гриппом, после которого последовало осложнение - туберкулёз. Для избавления от коварной болезни врачи рекомендовали сменить климат. Так получилось, что всю последующую жизнь Агте определила рекомендация иркутского доктора Каца: "На море ехать далеко, да и неизвестно, как резкая смена климата повлияет на мальчика. А вот я до революции был в Уфимской губернии - там очень хороший климат и дешёвые продукты".
Первый апрель
Окна квартиры, где живёт Сергей Владимирович Агте, выходят на Белую. Почти сорок лет он, не выходя из дома, может наблюдать ледоход на реке и половодье. А впервые разливом на Белой он любовался ещё десятилетним мальчишкой…
Сергей Агте родился в Иркутске в 1922 году. Когда ему было 5 лет, он заболел гриппом, после которого последовало осложнение - туберкулёз. Для избавления от коварной болезни врачи рекомендовали сменить климат. Так получилось, что всю последующую жизнь Агте определила рекомендация иркутского доктора Каца: "На море ехать далеко, да и неизвестно, как резкая смена климата повлияет на мальчика. А вот я до революции был в Уфимской губернии - там очень хороший климат и дешёвые продукты". Осенним вечером 1962 года пятилетним мальчишкой шёл я с родителями в нашу новую квартиру. Всё в этой части Уфы было мне внове, но основное внимание привлекла каланча. Я удивлённо задрал голову, но внезапно раздавшийся оглушительный свист поверг меня чуть ли не в ужас. Из больших деревянных ворот вылезла красная машина и, фыркнув, заторопилась вниз по улице. Так состоялось моё знакомство с Первомайской площадью.
Осенним вечером 1962 года пятилетним мальчишкой шёл я с родителями в нашу новую квартиру. Всё в этой части Уфы было мне внове, но основное внимание привлекла каланча. Я удивлённо задрал голову, но внезапно раздавшийся оглушительный свист поверг меня чуть ли не в ужас. Из больших деревянных ворот вылезла красная машина и, фыркнув, заторопилась вниз по улице. Так состоялось моё знакомство с Первомайской площадью. - ПрЕвЕД, бобер! Чё так длинно пишешь? Слушай сюдЫ...
И так далее. Участникам интернет-общения не стоит переводить эту околесицу - они сталкиваются с ней ежедневно. И трудно поверить, что за автором этого сообщения может быть кто угодно, даже умный и сдержанный директор солидной фирмы. Интернет тем и удобен, что там можно трансформироваться, как захочется, и творить все, что захочется. И ничего за это не будет. Впрочем, последний посыл ошибочен.
- ПрЕвЕД, бобер! Чё так длинно пишешь? Слушай сюдЫ...
И так далее. Участникам интернет-общения не стоит переводить эту околесицу - они сталкиваются с ней ежедневно. И трудно поверить, что за автором этого сообщения может быть кто угодно, даже умный и сдержанный директор солидной фирмы. Интернет тем и удобен, что там можно трансформироваться, как захочется, и творить все, что захочется. И ничего за это не будет. Впрочем, последний посыл ошибочен. Осенним вечером 1962 года пятилетним мальчишкой шёл я с родителями в нашу новую квартиру. Всё в этой части Уфы было мне внове, но основное внимание привлекла каланча. Я удивлённо задрал голову, но внезапно раздавшийся оглушительный свист поверг меня чуть ли не в ужас. Из больших деревянных ворот вылезла красная машина и, фыркнув, заторопилась вниз по улице. Так состоялось моё знакомство с Первомайской площадью.
Осенним вечером 1962 года пятилетним мальчишкой шёл я с родителями в нашу новую квартиру. Всё в этой части Уфы было мне внове, но основное внимание привлекла каланча. Я удивлённо задрал голову, но внезапно раздавшийся оглушительный свист поверг меня чуть ли не в ужас. Из больших деревянных ворот вылезла красная машина и, фыркнув, заторопилась вниз по улице. Так состоялось моё знакомство с Первомайской площадью. Воспоминания - единственный рай, из которого нас никто не может выгнать
Оноре Бальзак
На старости я сызнова живу,
минувшее проходит предо мною.
Из драмы А.С.Пушкина "Борис Годунов".
"Прямо поперёк улицы весной разливалось широкое озеро, затопляя и дорогу, и дворы", - строка из воспоминаний Искандара Гарифовича Нуреева - живого свидетеля истории нашего города всего советского периода - он родился в конце 1919 года. Нуреев не просто многое помнит - он записывает свои воспоминания, на сегодняшний день ими заполнены четыре толстенные тетради. Читать их - огромное удовольствие, ведь таких подробностей тогдашней жизни уже почти никто нам не расскажет. А ещё Нуреев - образец того, как надо вести домашний архив: все снимки в его фотоальбоме подписаны, и не надо гадать, кто на них изображён.
Воспоминания - единственный рай, из которого нас никто не может выгнать
Оноре Бальзак
На старости я сызнова живу,
минувшее проходит предо мною.
Из драмы А.С.Пушкина "Борис Годунов".
"Прямо поперёк улицы весной разливалось широкое озеро, затопляя и дорогу, и дворы", - строка из воспоминаний Искандара Гарифовича Нуреева - живого свидетеля истории нашего города всего советского периода - он родился в конце 1919 года. Нуреев не просто многое помнит - он записывает свои воспоминания, на сегодняшний день ими заполнены четыре толстенные тетради. Читать их - огромное удовольствие, ведь таких подробностей тогдашней жизни уже почти никто нам не расскажет. А ещё Нуреев - образец того, как надо вести домашний архив: все снимки в его фотоальбоме подписаны, и не надо гадать, кто на них изображён.
 Лет тридцать назад стали строить дома на месте садового участка нашей семьи в Старой Уфе. Нам же дали землю в пойме реки Дёмы. Обрабатывали мы её не менее усердно, но урожай не радовал: много листвы и очень мелкие плоды. Пытались разобраться с помощью книжек для садоводов, но там были лишь примитивные советы по типу "делай как я". Знать бы тогда, что давным-давно существуют карты почв Башкирии и рекомендации по их освоению и обработке.
Лет тридцать назад стали строить дома на месте садового участка нашей семьи в Старой Уфе. Нам же дали землю в пойме реки Дёмы. Обрабатывали мы её не менее усердно, но урожай не радовал: много листвы и очень мелкие плоды. Пытались разобраться с помощью книжек для садоводов, но там были лишь примитивные советы по типу "делай как я". Знать бы тогда, что давным-давно существуют карты почв Башкирии и рекомендации по их освоению и обработке. Маленькая ёлочка появилась, видимо, в 1915 году, когда новый дом был уже готов. Члены семьи всегда называли ель Сашиной, связывая её появление с рождением у Петра Петровича сына в 1914-м. Если старший - Путя (так Петю называла мать, чтобы не путать с отцом) мог наблюдать процесс строительства, то для Саши дом существовал всегда: сколько он себя помнил, всегда росла возле дома пушистая ель, всегда были мама и старший брат...
Маленькая ёлочка появилась, видимо, в 1915 году, когда новый дом был уже готов. Члены семьи всегда называли ель Сашиной, связывая её появление с рождением у Петра Петровича сына в 1914-м. Если старший - Путя (так Петю называла мать, чтобы не путать с отцом) мог наблюдать процесс строительства, то для Саши дом существовал всегда: сколько он себя помнил, всегда росла возле дома пушистая ель, всегда были мама и старший брат...
 Тот осенний день я часто вспоминаю до сих пор, спустя сорок лет, хотя, на первый взгляд, ничего необычного тогда не произошло. Как сейчас вижу себя скользящим по только что замерзшим лужам, идущий позади отец несет мое новое приобретение - книгу. Меня распирал восторг. Нет, не впервые увиденные библиотечные полки - под потолок - удивили меня: я был поражен тем, с какой легкостью могу стать обладателем, хотя бы и на время, любой, даже самой инте-ресной книги.
Тот осенний день я часто вспоминаю до сих пор, спустя сорок лет, хотя, на первый взгляд, ничего необычного тогда не произошло. Как сейчас вижу себя скользящим по только что замерзшим лужам, идущий позади отец несет мое новое приобретение - книгу. Меня распирал восторг. Нет, не впервые увиденные библиотечные полки - под потолок - удивили меня: я был поражен тем, с какой легкостью могу стать обладателем, хотя бы и на время, любой, даже самой инте-ресной книги. Стояли некогда на улице Пушкинской против Мариинской гимназии несколько домов. Принадлежали они управляющему Катавскими заводами. В одном из них собирались подпольщики, а хозяева им не мешали. Помня об этом, наследница недвижимости после революции съездила в Москву и через секретаря Ленина умудрилась выхлопотать для себя одноэтажный дом. И столь серьезной была привезенная из столицы бумага Совнаркома, что ей удалось занять даже двухэтажный...
Стояли некогда на улице Пушкинской против Мариинской гимназии несколько домов. Принадлежали они управляющему Катавскими заводами. В одном из них собирались подпольщики, а хозяева им не мешали. Помня об этом, наследница недвижимости после революции съездила в Москву и через секретаря Ленина умудрилась выхлопотать для себя одноэтажный дом. И столь серьезной была привезенная из столицы бумага Совнаркома, что ей удалось занять даже двухэтажный...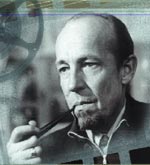 Интервью с руководителем Администрации Президента Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым. - Радий Фаритович, вы заняли высокий пост руководителя Администрации Президента РБ в достаточно молодом для политика возрасте. С какими мыслями вы заступили на эту должность, какую линию поведения для себя выработали?..
Интервью с руководителем Администрации Президента Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым. - Радий Фаритович, вы заняли высокий пост руководителя Администрации Президента РБ в достаточно молодом для политика возрасте. С какими мыслями вы заступили на эту должность, какую линию поведения для себя выработали?.. Мухамед Арсланов - основоположник башкирского театрально-декорационного искусства. Родился 2 февраля 1910 года в деревне Мамяково нынешнего Кушнаренковского района. Основная часть жизни прошла в Уфе. Долгие годы Мухамед Нуриахметович работал главным художником Башкирского государственного театра оперы и балета. Оформил больше 200 спектаклей...
Мухамед Арсланов - основоположник башкирского театрально-декорационного искусства. Родился 2 февраля 1910 года в деревне Мамяково нынешнего Кушнаренковского района. Основная часть жизни прошла в Уфе. Долгие годы Мухамед Нуриахметович работал главным художником Башкирского государственного театра оперы и балета. Оформил больше 200 спектаклей... Давным-давно была у меня мечта, сегодня кажущаяся просто смешной: попасть в далёкий и таинственный Черниковск. Уже и троллейбусы запросто доезжали до тамошней станции "Бензин", и бело-голубые микроавтобусы долетали до Соцгорода за какую-то четверть часа (эх, были же времена!). Однажды я плыл на теплоходе по Белой на экскурсию в Красный Яр. А по правую сторону над обрывом стояли, упираясь в небо, трубы и пылали газовые факелы...
Давным-давно была у меня мечта, сегодня кажущаяся просто смешной: попасть в далёкий и таинственный Черниковск. Уже и троллейбусы запросто доезжали до тамошней станции "Бензин", и бело-голубые микроавтобусы долетали до Соцгорода за какую-то четверть часа (эх, были же времена!). Однажды я плыл на теплоходе по Белой на экскурсию в Красный Яр. А по правую сторону над обрывом стояли, упираясь в небо, трубы и пылали газовые факелы... Полтора столетия назад один уфимец, обосновавшийся в подмосковном Абрамцеве, пообещал своей внучке Оленьке, что вскоре пришлёт ей книжку с рассказами из своего детства. Лишь через три года он смог выполнить своё обещание, зато книжка, а это были "Детские годы Багрова-внука", явилась подарком не только внучке, но и многим поколениям россиян. В этой книге Сергей Тимофеевич описал события и впечатления маленького ребёнка...
Полтора столетия назад один уфимец, обосновавшийся в подмосковном Абрамцеве, пообещал своей внучке Оленьке, что вскоре пришлёт ей книжку с рассказами из своего детства. Лишь через три года он смог выполнить своё обещание, зато книжка, а это были "Детские годы Багрова-внука", явилась подарком не только внучке, но и многим поколениям россиян. В этой книге Сергей Тимофеевич описал события и впечатления маленького ребёнка... "О, дайте вечность мне - и вечность я отдам, За равнодушие к обидам и годам". Иннокентий Анненский. Евдокия В Немировский детский дом Винницкой области Украины в конце 1930-х собрали детей репрессированных из Киева, Одессы и других крупных городов. Среди них была дочь кадрового офицера Евдокия Болбас. Когда в детдом прибыла партия настоящих "детей улицы", порядка в учреждении не стало...
"О, дайте вечность мне - и вечность я отдам, За равнодушие к обидам и годам". Иннокентий Анненский. Евдокия В Немировский детский дом Винницкой области Украины в конце 1930-х собрали детей репрессированных из Киева, Одессы и других крупных городов. Среди них была дочь кадрового офицера Евдокия Болбас. Когда в детдом прибыла партия настоящих "детей улицы", порядка в учреждении не стало...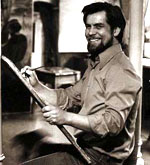 Чёрной летней ночью 1954 года вдоль старинного Сибирского тракта - как раз там, где через несколько лет протянется лента проспекта Октября, полз кажущийся игрушечным среди необъятных картофельных полей маленький трамвай. Подозрительного вида типы, словно выдавленные из темноты, вскакивали в вагончик прямо на ходу, хмуро озирались и немного удивлённо останавливали взгляд на неожиданных...
Чёрной летней ночью 1954 года вдоль старинного Сибирского тракта - как раз там, где через несколько лет протянется лента проспекта Октября, полз кажущийся игрушечным среди необъятных картофельных полей маленький трамвай. Подозрительного вида типы, словно выдавленные из темноты, вскакивали в вагончик прямо на ходу, хмуро озирались и немного удивлённо останавливали взгляд на неожиданных... Тихие зимние светло-синие вечера в центре Уфы начала 60-х: Их ощущение очень точно передал Борис Домашников в своей картине "Стадион". Каток в парке Якутова с елкой посередине. Снегурки, канадки, фигурные. Шаровары с начесом, шапки с большими помпонами. Писк в одежде - цвет морской волны, все оттенки голубого и зеленого, драповые пальто на вате с цигейковыми воротниками. Рядом, тут же в парке шуршат...
Тихие зимние светло-синие вечера в центре Уфы начала 60-х: Их ощущение очень точно передал Борис Домашников в своей картине "Стадион". Каток в парке Якутова с елкой посередине. Снегурки, канадки, фигурные. Шаровары с начесом, шапки с большими помпонами. Писк в одежде - цвет морской волны, все оттенки голубого и зеленого, драповые пальто на вате с цигейковыми воротниками. Рядом, тут же в парке шуршат... "Он не был обременен высокими званиями, знаками отличия. Даже кандидатскую степень он защитил по настоянию друзей. Но он был высоко эрудированным и глубоко мыслящим человеком. Личностью он был раскованной. Его лекции были исповедью человека, очарованного литературой. Многие из писателей Башкортостана, в том числе я, прошли уроки красоты и добра, что преподал М.Г. Пизов в Башпединституте...
"Он не был обременен высокими званиями, знаками отличия. Даже кандидатскую степень он защитил по настоянию друзей. Но он был высоко эрудированным и глубоко мыслящим человеком. Личностью он был раскованной. Его лекции были исповедью человека, очарованного литературой. Многие из писателей Башкортостана, в том числе я, прошли уроки красоты и добра, что преподал М.Г. Пизов в Башпединституте... Как человек обстоятельный, в свои сорок с небольшим лет Павел Васильевич не мог позволить себе даже выглядеть суетливым, и потому, когда дежурный подал второй звонок, он, не прерывая разговора с компаньоном, стал неспешно расплачиваться с буфетчиком. Выходя на перрон, услышал третий звонок. Только тогда спохватился, что до вагона-то ещё надо дойти, и прибавил шагу. Поезд тронулся, кондуктор махал ему флажком...
Как человек обстоятельный, в свои сорок с небольшим лет Павел Васильевич не мог позволить себе даже выглядеть суетливым, и потому, когда дежурный подал второй звонок, он, не прерывая разговора с компаньоном, стал неспешно расплачиваться с буфетчиком. Выходя на перрон, услышал третий звонок. Только тогда спохватился, что до вагона-то ещё надо дойти, и прибавил шагу. Поезд тронулся, кондуктор махал ему флажком...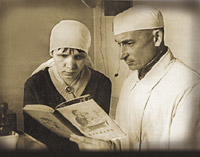 Звание "почётный гражданин" появилось в России в 1832 году. Оно давало его носителям почти те же привилегии, что имели дворяне, за исключением права владеть крепостными. Например, в 1900 году в Уфе почётными гражданами были купцы Блохины, В.И.Видинеев, В.Е.Поносов, Ф.Е.Чижов. Все они остались в истории города как люди, много сделавшие для развития образования, здравоохранения, культуры и как щедрые благотворители. В 1969 году в Уфимском горсовете возникла идея возобновить это звание на новой основе. Первым Почётным гражданином города Уфы советского времени стал профессор-офтальмолог Габдулла Хабирович Кудояров...
Звание "почётный гражданин" появилось в России в 1832 году. Оно давало его носителям почти те же привилегии, что имели дворяне, за исключением права владеть крепостными. Например, в 1900 году в Уфе почётными гражданами были купцы Блохины, В.И.Видинеев, В.Е.Поносов, Ф.Е.Чижов. Все они остались в истории города как люди, много сделавшие для развития образования, здравоохранения, культуры и как щедрые благотворители. В 1969 году в Уфимском горсовете возникла идея возобновить это звание на новой основе. Первым Почётным гражданином города Уфы советского времени стал профессор-офтальмолог Габдулла Хабирович Кудояров... В 1948 году в Максимовской школе №3, в пригороде Уфы, появился новый учитель рисования и черчения - фронтовик, еще совсем молодой человек привлекательной наружности. Владимир Пустарнаков был по-настоящему красив: голубые, немного грустные глаза, золотисто-русые волосы, спортивное телосложение, а еще добавьте к этому низкий, сильный голос бархатного тембра, в котором то и дело звучали властные, не терпящие возражения интонации. На его уроках не шумели, объяснял он толково и интересно, был строг, но справедлив. Просочились слухи, что на войне он командовал пулеметным взводом, был тяжело ранен, чудом выжил...
В 1948 году в Максимовской школе №3, в пригороде Уфы, появился новый учитель рисования и черчения - фронтовик, еще совсем молодой человек привлекательной наружности. Владимир Пустарнаков был по-настоящему красив: голубые, немного грустные глаза, золотисто-русые волосы, спортивное телосложение, а еще добавьте к этому низкий, сильный голос бархатного тембра, в котором то и дело звучали властные, не терпящие возражения интонации. На его уроках не шумели, объяснял он толково и интересно, был строг, но справедлив. Просочились слухи, что на войне он командовал пулеметным взводом, был тяжело ранен, чудом выжил... В 1876 году в семье уфимского мещанина Ивана Абрамова, служившего мелким государственным чиновником, родился сын Федор, с детства удивлявший всех своими талантами. Мальчик отличался редким музыкальным слухом, а в его рисунках была линия: он мог одним росчерком, не отрываясь, изобразить любой предмет, чем приводил в восхищение и детей, и взрослых. Рисовал он правильно, даже слишком точно. За что и пострадал впоследствии. Он уже учился в Казанском художественном училище, когда кто-то из преподавателей ему прямо заявил: "Какой из вас художник? Вы же, Абрамов, чертежник, причем превосходный"...
В 1876 году в семье уфимского мещанина Ивана Абрамова, служившего мелким государственным чиновником, родился сын Федор, с детства удивлявший всех своими талантами. Мальчик отличался редким музыкальным слухом, а в его рисунках была линия: он мог одним росчерком, не отрываясь, изобразить любой предмет, чем приводил в восхищение и детей, и взрослых. Рисовал он правильно, даже слишком точно. За что и пострадал впоследствии. Он уже учился в Казанском художественном училище, когда кто-то из преподавателей ему прямо заявил: "Какой из вас художник? Вы же, Абрамов, чертежник, причем превосходный"... Все любят таинственные истории. Но та, что несколько лет назад была опубликована в одной из уфимских газет, при всей своей занимательности, задела меня совсем с другой стороны. Уфимский дворик, о котором шла речь, был мне знаком чуть ли не с рожденья как двор детства моего отца. Родной дом его остался лишь в памяти - в той давней одноэтажной Уфе, как мираж, растаявшей в последние десятилетия прямо на наших глазах. С любопытством прочитал я в газете о том, как в начале 20-х годов в дом, стоявший на углу Ильинской и Спасской (нынешних улиц Фрунзе и Новомостовой), попросилась на ночлег убогая, сгорбленная старушка...
Все любят таинственные истории. Но та, что несколько лет назад была опубликована в одной из уфимских газет, при всей своей занимательности, задела меня совсем с другой стороны. Уфимский дворик, о котором шла речь, был мне знаком чуть ли не с рожденья как двор детства моего отца. Родной дом его остался лишь в памяти - в той давней одноэтажной Уфе, как мираж, растаявшей в последние десятилетия прямо на наших глазах. С любопытством прочитал я в газете о том, как в начале 20-х годов в дом, стоявший на углу Ильинской и Спасской (нынешних улиц Фрунзе и Новомостовой), попросилась на ночлег убогая, сгорбленная старушка...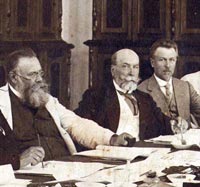 В Ушаковском парке. Сам Богданович глубоко переживал случившееся. Сохранились свидетельства очевидца о том, что Николай Модестович в частной беседе говорил: "Как вы думаете, так ли я поступил, как следовало поступить? Меня обвиняют, что я не обдумавши поступил так. Но даю честное слово, что поступил в полном сознании того, что делаю, я не видел другого исхода. Государь одобрил мой поступок, что меня и успокаивает". А ещё Богданович винил себя за то, что не привел с собой...
В Ушаковском парке. Сам Богданович глубоко переживал случившееся. Сохранились свидетельства очевидца о том, что Николай Модестович в частной беседе говорил: "Как вы думаете, так ли я поступил, как следовало поступить? Меня обвиняют, что я не обдумавши поступил так. Но даю честное слово, что поступил в полном сознании того, что делаю, я не видел другого исхода. Государь одобрил мой поступок, что меня и успокаивает". А ещё Богданович винил себя за то, что не привел с собой... Здание на улице Гоголя, в котором разместился музей народного образования, известно как дом Ивана Талова, что подтверждается и белым медальоном, с давних лет висящим на фасаде...
Здание на улице Гоголя, в котором разместился музей народного образования, известно как дом Ивана Талова, что подтверждается и белым медальоном, с давних лет висящим на фасаде... Началась эта история, по выражению одного современного автора, "в те времена, когда кружева исподнего еще не вошли в противоречие с грубым сукном эпохи". В правильности этой фразы вы убедитесь, следуя за моим повествованием. В Уфу Фукаловых, кажется, позвали вятские земляки, такие же старообрядцы Буторины. У них-то они и прожили на Амурской до 1903 года, пока строился собственный дом...
Началась эта история, по выражению одного современного автора, "в те времена, когда кружева исподнего еще не вошли в противоречие с грубым сукном эпохи". В правильности этой фразы вы убедитесь, следуя за моим повествованием. В Уфу Фукаловых, кажется, позвали вятские земляки, такие же старообрядцы Буторины. У них-то они и прожили на Амурской до 1903 года, пока строился собственный дом... ...Думаю, Василий Поносов не сомневался в том, что Зоренька - его судьба, действительно утро его жизни. Его должно было удивлять и даже немного пугать совпадение имен. Ведь первую жену тоже звали Зоей. Сестра краеведа Н.Н. Барсова - Зоя Николаевна - рано умерла от туберкулеза, оставив сына, названного в честь деда и отца Василием. По словам Тамары Ильиничны, юноша бывал у них на Тобольской, она запомнила его белоснежную улыбку и синие глаза. По всей видимости, он жил у родственников матери...
...Думаю, Василий Поносов не сомневался в том, что Зоренька - его судьба, действительно утро его жизни. Его должно было удивлять и даже немного пугать совпадение имен. Ведь первую жену тоже звали Зоей. Сестра краеведа Н.Н. Барсова - Зоя Николаевна - рано умерла от туберкулеза, оставив сына, названного в честь деда и отца Василием. По словам Тамары Ильиничны, юноша бывал у них на Тобольской, она запомнила его белоснежную улыбку и синие глаза. По всей видимости, он жил у родственников матери... В 1959-м она поехала в Уфу на разведку, рассчитывая через год поступить в аспирантуру. Рекомендацию в Стерлитамакском пединституте почему-то написали на имя знаменитого лингвиста Джалиля Киекбаева. Профессор назначил ей встречу в университете. На маленьком, звонком трамвайчике она проехала по улице Ленина до кольца. Времени было достаточно, и она отправилась пешком на Фрунзе, мимо сквера Сталина, где еще стоял памятник вождю, и оперного театра, дальше по Пушкинской аллее...
В 1959-м она поехала в Уфу на разведку, рассчитывая через год поступить в аспирантуру. Рекомендацию в Стерлитамакском пединституте почему-то написали на имя знаменитого лингвиста Джалиля Киекбаева. Профессор назначил ей встречу в университете. На маленьком, звонком трамвайчике она проехала по улице Ленина до кольца. Времени было достаточно, и она отправилась пешком на Фрунзе, мимо сквера Сталина, где еще стоял памятник вождю, и оперного театра, дальше по Пушкинской аллее... Прогноз погоды интересовал людей во все времена. Одним это нужно для работы, другие просто не могут без этого жить. Тема больше волнует взрослых, но чтобы и дети не отставали, учителя заставляют их вести дневники наблюдений за погодой. Любопытно, что когда-то в уфимской Мариинской женской гимназии девочки даже писали на эту вечную тему сочинение - "Почему в обществе так часто говорят о погоде?" О погоде и политике. Попытки наблюдений за атмосферными явлениями делались ещё в древности в Китае, Индии...
Прогноз погоды интересовал людей во все времена. Одним это нужно для работы, другие просто не могут без этого жить. Тема больше волнует взрослых, но чтобы и дети не отставали, учителя заставляют их вести дневники наблюдений за погодой. Любопытно, что когда-то в уфимской Мариинской женской гимназии девочки даже писали на эту вечную тему сочинение - "Почему в обществе так часто говорят о погоде?" О погоде и политике. Попытки наблюдений за атмосферными явлениями делались ещё в древности в Китае, Индии... В 1907-м Ильдерхан Кудашев вернулся после царской службы в родной Буздяк. Семья жила бедно, земли - всего ничего. Пошёл ямщиком на почту. Пять лет мотался и в жару, и в стужу из Буздяка в Уфу и обратно. Путь неблизкий, уставал Ильдерхан изрядно, но молодость и то, что татары называют "дэрт", то есть страстность натуры, взяли своё. Успел он заприметить на соседней улице юную голубоглазую красавицу Фатыму. Да и она в него влюбилась без памяти. Только оба знали, что не отдадут её родители за бедняка...
В 1907-м Ильдерхан Кудашев вернулся после царской службы в родной Буздяк. Семья жила бедно, земли - всего ничего. Пошёл ямщиком на почту. Пять лет мотался и в жару, и в стужу из Буздяка в Уфу и обратно. Путь неблизкий, уставал Ильдерхан изрядно, но молодость и то, что татары называют "дэрт", то есть страстность натуры, взяли своё. Успел он заприметить на соседней улице юную голубоглазую красавицу Фатыму. Да и она в него влюбилась без памяти. Только оба знали, что не отдадут её родители за бедняка... 44-летний Хасан и 30-летняя Маруся поженились в 1955-м, потом у них родились дочки Флорида и Рима. Кудашевы в то время уже жили на Октябрьской, 3а, в старинном доме Блохина. При купцах здание было двухэтажным, в 30-х к нему добавили третий этаж, на котором-то и поселились наши герои. Это был их пятый переезд. Какое-то время они ещё успели пожить и на Крупской. После курчатовского дома Хусаин Ильдерханович снова соединился с родителями в двухкомнатной квартире с просторной кухней на Достоевского...
44-летний Хасан и 30-летняя Маруся поженились в 1955-м, потом у них родились дочки Флорида и Рима. Кудашевы в то время уже жили на Октябрьской, 3а, в старинном доме Блохина. При купцах здание было двухэтажным, в 30-х к нему добавили третий этаж, на котором-то и поселились наши герои. Это был их пятый переезд. Какое-то время они ещё успели пожить и на Крупской. После курчатовского дома Хусаин Ильдерханович снова соединился с родителями в двухкомнатной квартире с просторной кухней на Достоевского... При упоминании имени Льва Толстого сразу вспоминается и его титул - граф. А что, собственно, обозначает этот дворянский титул? Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона утверждает, что граф - название должностного лица во Франкском государстве и Англии. С падением феодализма звание сделалось почётным фамильным титулом - выше барона, но ниже князя. В России графский титул введён Петром Первым; первым графом был Б. Шереметьев. Декретом ВЦИК и Совнаркома от 11 ноября 1917 г. титул ликвидирован...
При упоминании имени Льва Толстого сразу вспоминается и его титул - граф. А что, собственно, обозначает этот дворянский титул? Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона утверждает, что граф - название должностного лица во Франкском государстве и Англии. С падением феодализма звание сделалось почётным фамильным титулом - выше барона, но ниже князя. В России графский титул введён Петром Первым; первым графом был Б. Шереметьев. Декретом ВЦИК и Совнаркома от 11 ноября 1917 г. титул ликвидирован...