 |
РУБРИКА "ПО РОДНОЙ СЛОБОДЕ"По этапу Лидии Руслановой…
 ...Август 1962 года. Стадион «Труд» взорвался бурей аплодисментов - на сцене блистала народная любимица Лидия Русланова. На лихой тройке, в народном костюме, как всегда задорно выводящая «Валенки, валенки…» - такой она запомнилась уфимцам. Тогда мало кто знал, что артистке уже доводилось бывать в нашем городе. В другое время и при других обстоятельствах. И тогда визит был не столь теплым. ...Август 1962 года. Стадион «Труд» взорвался бурей аплодисментов - на сцене блистала народная любимица Лидия Русланова. На лихой тройке, в народном костюме, как всегда задорно выводящая «Валенки, валенки…» - такой она запомнилась уфимцам. Тогда мало кто знал, что артистке уже доводилось бывать в нашем городе. В другое время и при других обстоятельствах. И тогда визит был не столь теплым.
В 1953 году при этапировании из Озерлага во Владимирскую тюрьму у певицы поднялась температура. А ближайшая женская колония оказалась в уфимской Ново-Александровке. Местные жители старались лишний раз не упоминать в разговорах бараки за колючей проволокой на далекой окраине, но прознав, какая арестантка прибыла в «5-й лагерь», многие захотели передать продукты, теплые вещи и, конечно же, валенки-самокатки. Один из очевидцев тех событий, работавший в лагере охранником, вспоминал:
- Неожиданной эта остановка была как для самой заключенной, так и для местного начальства. Инструкций по встрече знаменитой арестантки не было, а потому все находились в полном замешательстве.
Отсутствие достоверной информации о «сидельцах» привело к созданию городских легенд. Якобы с балкона одного из зданий 9-й колонии пел свои романсы и Вадим Козин, останавливавшийся здесь на пути в Магадан. Многие уфимцы и сегодня с чистой совестью подтвердят, что лично слышали знаменитого тенора и концерты опальной Руслановой для строителей Черниковска. Данных, подтверждающих это, в Уфе найти не удалось. А вот в архивах Владимирского централа Лидия Андреевна действительно была этапирована в Уфу, в ИТК-13 в 1953 году. Но пробыла здесь недолго.
Период полураспада
…Вокруг домов густая трава, сквозь заброшенные окна и двери кое-где проросли молодые деревца и кустарники - природа, словно почувствовав отступление человека, решительно взялась отвоевывать территорию. Прогнившие крыши, осыпавшиеся стены, расписанные неизвестными «художниками», - рабочая окраина Ново-Александровка, или 5-й лагерь, действительно могла бы стать площадкой для съемок триллера или боевика.
Великое переселение «Пятого» началось в 70-х, когда выяснилось, что жилмассив с 45 тысячами жителей попал в трехкилометровую санитарную зону новых площадок нефтеперерабатывающего завода партсъезда. Первыми пошли под снос бараки на улицах Парижской коммуны и Лизы Чайкиной. А официально оно завершилось лишь в 1997-м, когда квартиры получили последние «аборигены». Ордера выдавались чуть ли не за месяц до переезда, груженные скарбом машины увозили новоселов в первые сипайловские панельки, высотки на Вологодской или в Шакше. Старые телевизоры, утварь, сломанные игрушки - все, что сегодня становится объектом фотосессий в «сталкерском» стиле, - просто ненужные вещи, которые не стали забирать в новый дом, а не свидетели масштабной человеческой трагедии. Градообразующий завод не прекратил работу, жители не покидали в спешке дома, гонимые страхом и чувством неизвестности. Здесь больше трех десятков лет кипела жизнь.
Жизнь до…
Родной воздух сладок, даже если он насыщен специфическим ароматом близлежащего завода. Многие жители Ново-Александровки с теплотой вспоминают годы, прожитые в поселке. Вопреки расхожему мнению жили дружно. Да, случались драки: ходили двор на двор, квартал на квартал. Потом лечили синяки и замывали кровь на модных брюках… Но здесь царили те же законы общежития, что и во дворах Черниковки или центральной части Уфы. Нейтральность послевоенного строительства, как и всеобщая «уравниловка», не позволяли отдаленным микрорайонам трансформироваться в гетто. Так что как и везде, «на Пятом» рукастый слесарь и инженер могли соседствовать с заядлым забулдыгой, возмутителем общественного спокойствия.
Здесь, не задумываясь, оставляли ключ под ковриком, а то и вовсе не запирали дверь, одалживали до зарплаты «трешку», соль и яйца.
- Двери у нас не закрывались ни днем, ни ночью, - вспоминает пенсионерка Галина Алексеевна. - У меня дети часто болели, так медсестра с утра перед работой зайдет, проверит, совет даст. Без вызова, без стука... Сейчас это выглядело бы странно, а тогда было в порядке вещей.
Поселок, начавшись с деревянных бараков и сторожевых вышек, уже к 50-м годам представлял собой крупный заводской микрорайон с развитой инфраструктурой. Сначала здесь обустроили небольшой медицинский пункт, а в 1950 году его преобразовали в больницу № 11, где принимали узкие специалисты, работали женская и детская консультации. Первым главным врачом больницы стал Олег Вехновский, но дольше всех этот пост занимал Семен Евсеевич Гутман. Вскоре открылся и родильный дом. Сегодня в этом здании один из корпусов наркологического диспансера.
Расцвет Ново-Александровки пришелся на середину 50-х - 60-е годы. Поселок называли «комсомольским», так как было много детей и молодежи. Для них возвели детские сады, три школы и училище. Выпускники школы № 73 1970-х годов наверняка вспомнят учителя физики Юрия Сергеевича Абакшина. Он организовал фотокружок, вывозил старшеклассников в походы. Для многих поездки стали путевкой в жизнь, уберегли от дурного влияния улиц.
Одно из самых заметных зданий поселка - ПТУ № 12. Здесь готовили шоферов, слесарей, обучали и другим рабочим специальностям. И сегодня обветшалая постройка в классическом «сталинском» стиле привлекает внимание доморощенных сталкеров. Так называемая красная комната - одно из популярнейших мест среди подростков. Несколько лет назад здесь произошел пожар, но здание все еще доступно для посещений.
Многие получившие квартиру в поселке могли прожить здесь всю жизнь, не выезжая «в город». Было все необходимое, в том числе и несколько магазинчиков - продмагов, с характерными для того времени башнями из рыбных консервов и банками с повидлом на полках. В «двойке» (магазин №2) располагалась булочная. Напротив был небольшой рынок, который, впрочем, скоро закрыли. В пункте проката можно было взять вещи во временное пользование или сделать снимок на память в единственном на всю округу фотоателье.
Вместе с жильем от предприятия часто выдавали и земельные наделы, знаменитые «шесть соток». Участки «пятовским» выделили поблизости, на горе, по обе стороны от шоссе. Вечерами, когда смолкала размеренная дачная жизнь, отчетливо слышался убаюкивающий шум проезжающих машин. А какой чудный вид открывался с крутого скалистого берега на бегущую внизу Белую! Многие не только разбивали сады с ароматной грушовкой, терентьевкой и модным белым наливом, но и держали настоящее приусадебное хозяйство - поросят, кур, кроликов - важное подспорье, особенно в годы тотального дефицита. Крестьянский быт еще крепко сидел в головах горожан первого поколения, которые в основном и составляли население рабочей окраины.
Даже спустя много лет после расселения в сады продолжали ездить, радуясь урожаю и не думая о вредных выбросах. Пузатый «ЛиАЗ» под № 23, вечно переполненный, поскрипывая и переваливаясь, отправлялся с Колхозного рынка, увозя горожан на «свежий воздух». Постепенно сады опустели, в брошенные домики стали наведываться мародеры, и ездить туда стало просто небезопасно. Щедрые яблони, сливы и кусты малины и сегодня привлекают внимание любителей бесплатных угощений, частично дачные поселки заселили асоциальные граждане, к ним регулярно наведываются с проверками полицейские и пожарные.
Быт и нравы
Основная часть застройки «5-го лагеря» - кирпичные двухэтажки, хотя встречались и «пережитки прошлого» - деревянные бараки. Дома обогревались паровым отоплением, был санузел и холодная вода. А вот газ - только баллонный. Готовили сначала в печках, затем их разобрали и установили примусы и керогазы. Часто случались перебои с электричеством, поэтому в каждой семье держали про запас пару-тройку керосиновых ламп. За горючим ходили в специальную лавку, насквозь пропитанную терпким запахом. Располагалась она на улице Лизы Чайкиной.
Часто по дворам ходили крестьянки из ближайших сел - Старой Александровки, Тугай и других, теперь уж безымянных поселков на берегу реки. Несли на коромыслах по два ведра, заглядывая в подъезды и предлагая свой товар: - Кому кисла молока? 5 копеек за пол-литра полезнейшей простокваши - отбоя от желающих не было! Забредал сюда, на радость местной ребятне, и неизменный старьевщик на худой лошаденке. Выменивал ветошь и тряпье на нехитрые игрушки: шарики да свистульки.
- Жили мы просто, чтобы раздобыть денег на карманные расходы, приходилось проявлять смекалку. По весне бегали на поля в сторону Турбаслов и собирали кислицу и дикий щавель. Связывали в пучки и ехали на Колхозный рынок, там продавали по три копейки. В ход шли и мамины соленья из погреба, - смеясь, вспоминает Владимир Стуколкин. - Кто-то хвалил: такие маленькие, а уже работают, другие стыдили горе-предпринимателей. Наторговавшись, мы с шиком просаживали мелочь на мороженое.
Раздобыть рубль, а то и больше, можно было, отправившись рано утром на стадион «Новатор». Вечером там куражились молодежные компании, показывая доблесть, крутились на турнике, а на рассвете детвора собирала «трофеи». Тайком от родителей ездили в Черниковку, кататься на каруселях в парке Нефтехимиков. Но официально в город выезжали редко - разве что на демонстрации, в основном все праздники проходили в поселке. На площадке возле кинотеатра «Тан» или ДК «Новатор», где не только показывали кино, но и устраивали танцы.
Надежда на возрождение
Сегодня специалисты отмечают большой потенциал территории как промышленной зоны. Таким образом, окраина скорее не унылые пейзажи, а огромное пространство для развития. Недавно в СМИ прошла новость, что в обозримом будущем здесь может появиться крематорий, хотя районной администрации о таких планах ничего не известно.
- Все жилые здания здесь давно переведены в коммерческий фонд, - говорит заместитель главы администрации Орджоникидзевского района Ришат Давлетгареев. - Сегодня в Ново-Александровке около 30-40 предприятий. Основной профиль их работы так или иначе связан с нефтехимической отраслью, но есть и другие направления. Конечно, потенциал у территории есть, здесь даже планировали создать производственно-технический центр для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Но реализацию проекта пришлось отложить на неопределенное время: системы водо-, тепло- и электроснабжения сильно изношены и требуют немалых вложений. Чтобы Ново-Александровка снова ожила, необходимо желание не только администрации, но и бизнеса.
Для того чтобы огни рабочего поселка вновь зажглись, также потребуется создать удобную систему логистики, привести в порядок дороги. Конечно, центральная улица Энергетиков может похвастаться свежим асфальтом: месяц назад на восьмикилометровом отрезке уложили новое покрытие. Большинство домов на «красной линии» выглядят добротно: здесь размещаются офисы крупных и небольших компаний, магазинчики и даже цеха. На окнах решетки и новые стеклопакеты, некоторые здания обшиты сайдингом, на солнце блестят оцинкованные крыши.
Но стоит свернуть с главной «магистрали», как картинка резко меняется. Пустые глазницы заброшенных зданий, разбитые дороги и непривычная для городского жителя тишина, нарушаемая лишь веселым гомоном вездесущих птиц.
Улица Сахалинская, некогда многолюдная и живая, сегодня густо заросла кустарником. Многие дома давно снесли, другие огорожены глухим забором. В доме № 19 мне посчастливилось прожить год младенческой беззаботной жизни, сегодня здесь размещается какая-то организация. Подойти ближе к родному гнезду, а тем более попасть внутрь не получается - чужаков тут же прогоняют невесть откуда возникшие огромные собаки.
В четырехэтажках напротив прежде располагались рабочие общежития. Сегодня их занимают корпуса наркологического диспансера. Здесь по-прежнему все знают друг друга и к случайным посетителям относятся осторожно. Виной тому многочисленные любители побродить и поиграть в экстремальные игры, которые часто заканчиваются неприятностями. Увы, пожары не редкость: поджигают намеренно или по неосторожности, но в любом случае и так ветхие здания становятся обвалоопасными и под непрошеными гостями рискует провалиться пол или лестница. Но мрачные интерьеры, хранящие чужие воспоминания, все равно привлекают толпы искателей приключений.
Город или поселок?
В конце XIX в. крестьяне-переселенцы выкупили у местного помещика Сафронова по 45 рублей за десятину и основали сначала починок, а затем и деревеньку - Ново-Александровку, относящуюся к Степановской волости. В черту города она вошла в 1935 году, видимо, тогда же здесь возникла режимная зона - спецпоселение, давшее территории второе название «Пятый лагерь». В 1949 году постановлением Исполкома Черниковского городского совета были отменены названия поселков, сел, деревень в черте города и нумерация жилых кварталов. Но в народной молве столь специфические топографы сохранялись еще очень долго: «Да это наш - «пятовский»», «Когда еще на «Пятом» жили…».
Так что собой представлял этот легендарный «Пятый», оторванный от города, но в то же время являющийся его органичной частью? Еще до того как в обиход вошло новомодное слово - микрорайон, крупные жилые массивы, возникающие в пределах города, принято было называть поселками. Чаще всего они возникали поблизости крупного предприятия, строились быстро и представляли собой целостные ансамбли.
Журналист и краевед Юрий Ерофеев, работая с архивами, обнаружил интересный отзыв главного архитектора Черниковска Маргариты Куприяновой о промышленном городке до «великого строительства»:
- Малоэтажные дома, заняв всю территорию, отведенную для них, распространились даже на места, не предусмотренные под жилищную застройку. В зонах, не подлежащих застройке, возникли три поселка: Ново-Александровка, Аварийный и ДОК: город до сих пор представляет собой сеть разрозненных поселков.
Аварийный поселок вскоре перестал существовать как жилой сектор, ДОК органично вплелся в структуру города, а вот Ново-Александровка так и осталась на отшибе. Если бы не «санитарная зона» - кто скажет, как бы пошло ее развитие. Однако большинство старожилов, кто с теплотой вспоминает годы, проведенные в поселке, уверенно говорят: «А не расселили бы, так и жили не то в городе, не то в деревне. Хорошо, что так вышло».
Екатерина МАРКОВА |
|
 |
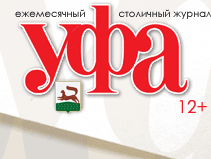




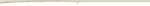





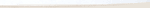

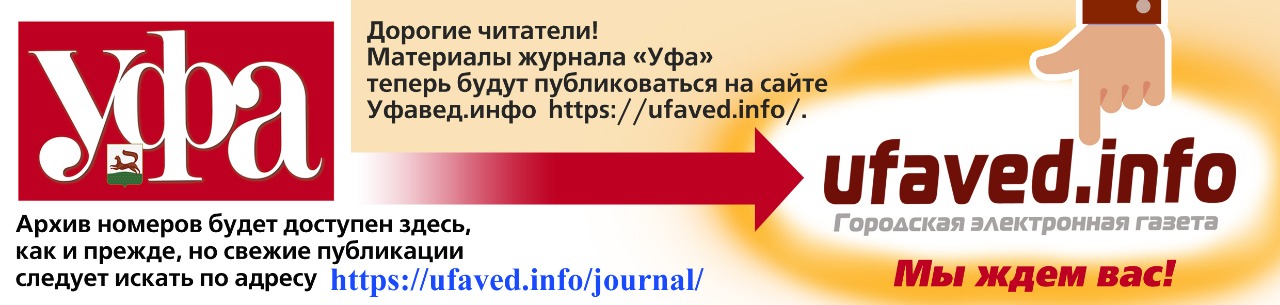
 ...Август 1962 года. Стадион «Труд» взорвался бурей аплодисментов - на сцене блистала народная любимица Лидия Русланова. На лихой тройке, в народном костюме, как всегда задорно выводящая «Валенки, валенки…» - такой она запомнилась уфимцам. Тогда мало кто знал, что артистке уже доводилось бывать в нашем городе. В другое время и при других обстоятельствах. И тогда визит был не столь теплым.
...Август 1962 года. Стадион «Труд» взорвался бурей аплодисментов - на сцене блистала народная любимица Лидия Русланова. На лихой тройке, в народном костюме, как всегда задорно выводящая «Валенки, валенки…» - такой она запомнилась уфимцам. Тогда мало кто знал, что артистке уже доводилось бывать в нашем городе. В другое время и при других обстоятельствах. И тогда визит был не столь теплым.